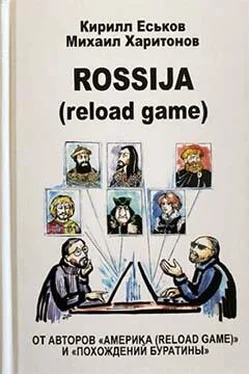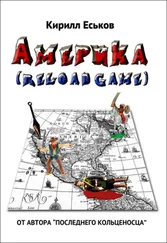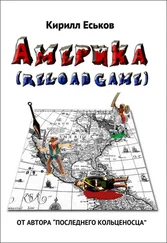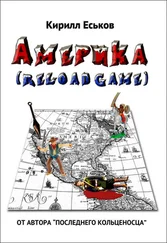— Боюсь, они тогда все разбегутся, Владимир Владимирович, — вздохнул Годунов. — Новгородчина-то рядом.
— Нычэго. На их мэсто придут другиэ, каторыэ будут работат на нащих условыях, — Цепень покосился на небольшую группу бояр, спускавшихся с лестницы и что-то оживленно обсуждавших. Было понятно, что он их разговор слышит: слух у кромешника был отменный. — Я пайду, нэ паминайтэ лихом, — кончики его усов опять дрогнули в усмешке.
— С Богом, — пробормотал Годунов.
— Ой ли с Богом, — очень тихо добавил Курбский, когда человек в красном отошел на достаточное расстояние.
— Но в чем-то он прав, — задумчиво покивал Борис Феодорович. — Финансовую реформу надо продвигать… Тьфу, какая же гадость это розовое масло. Пожалуй, пойду, умоюсь.
— Дай слово молвить, — в голосе Курбского впервые прозвучала настоящая, непритворная мольба. — Реформа — это хорошо… наверное. Только, уж прости, не в ней дело. Покуда Ливонский вор в Иван-Городе сидит, нам тут покоя не будет! С каждым ведь годом сил у него прибывает! Время, похоже, на него работает, на аспида! Ударить, ударить нужно! Сейчас — или никогда!
Перекрестился истово:
— Дай мне тридцать тысяч войска, Борис Феодорыч — всё, что есть, — да заплати им серебром — хоть в последний раз, но заплати! Псков взять — этого хватит, ну а уж дальше — как говорится, эндшпиль при лишней фигуре: Новгород — нам, Ливонию — ляхам, хер уже с ней, с той Ливонией, не до жиру, быть бы живу!
Перевел дух и продолжил:
— Не веришь мне — так прикажи приковать цепями к телеге! И пусть на той телеге стрельцы стоят с ружьями заряжёнными! Чтоб стреляли в меня, ежели неверность заметят! Прикажи! Неужто убоялся ты этого упыря лихого, что на речи его прельстивые…
— Охолонись! — голос Годунова был негромок, но тверд настолько, что воевода враз замолчал. — Воюешь ты славно, Андрей Михалыч, а в эти дела не лезь. Тут расчет высший, государственный.
— Беду чую, — понурился Курбский; уголки губ его ушли вниз, обозначая обиду. — Вот чую и всё тут. Иоанн что-то готовит.
— Ты же сам сказал: время на него работает. А коли так, ему выгоднее оборону держать… А напиши ты ему? — подначил Годунов полководца. — Он же тебе ответствует.
— И этого я никак не пойму, — Курбский смахнул с короткой бородки какой-то мусор. — Почему он со мной переписывается? Неужто жалеет о чём?
— А ты сам пошто ему пишешь?
— Доказать хочу, — воевода сжал кулак. — Хоть так. Не могу из пищали достать, так слово скажу. Может, хоть икнётся ему, окаянному.
— Вот то-то и оно-то, — заключил Годунов. — Перо твое местию дышит. И сам ты тоже. Ты всё сквитаться мечтаешь, а мне надобно государство поднимать. Так что программа у тебя неконструктивная, — эти слова Борис Феодорович выучил недавно и они ему очень нравились.
Курбский посмотрел на Годунова в упор.
Потом Годунов не раз вспоминал этот взгляд. В котором уже не было ни злости, ни обиды — одна тоскливая обреченность.
— Не веришь ты мне, — махнул рукой воевода. — А я вот чую: задумали они в Иван-Городе какую-то каверзу. Нутром чую, а доказать не могу!
Сложно всё тут
Ох, устал я, устал, — а лошадок распряг.
Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги!
Никого, — только тень промелькнула в сенях,
Да стервятник спустился и сузил круги.
Высоцкий
От сотворения мира лето 7068, сентября месяца день пятнвдцатый.
По исчислению папы Франциска 25 Сентября (пятница) 1559.
Москва, Белый город. Церковь и кабак .
В церкви был смрад и полумрак, дьяки курили ладан.
Да не тот уютный полумрак, которому во храме и полагается быть, а почитай полная темень — видать, все окошки затворили. Воздух от этого, ясное дело, свежее не стал. И вообще — не чувствовалось тут того смиренного духа, который любому человеку в утешение, особенно же военному. Земное не отпускало.
Впрочем, сейчас оно было бы и некстати: князь нынче искал тут встречи не с Господом, а с Василием Шибановым. Московские «Сорок сороков» церквей-то — сорокА сорокАми, но вокруг московского подворья Курбского храмов, куда стремянный мог бы ходить к обедне, всё же не бессчетно; вот и обнаружился он почти сразу, у Косьмы и Дамиана на Маросейке.
Шибанов, видный ему отсюда со спины, молился истово и угрюмо. Сразу чувствовалось, что совесть старого рубаки пребывает в неспокойствии. Сколько Серебряный помнил того по Ливонской кампании, никогда бравый стремянный Курбского сколь-нибудь заметным молитвенным рвением не отличался — а тут вишь как проникся …
Читать дальше