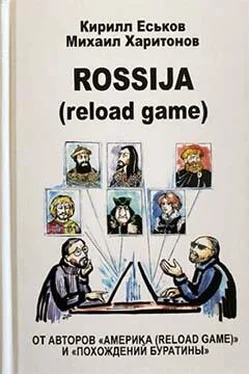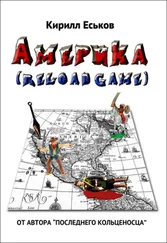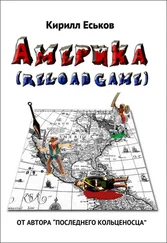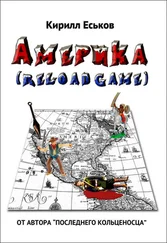Наш комар тем временем, выполнив сложные воздушные эволюции, занял стратегическую позицию на краю свертка. Там, в грязном тряпье, лежало теплое, нежное, полнокровное тельце. Надо было только пробраться внутрь.
— А чего не орет? — вдруг забеспокоился Чернява.
— Крепким пивом напоил. Он и не почувствует ничего. Ты, главное, быстро: чик и всё… Чего ждем-то?
— Караульного, — сказал тот, кого звали Чернявой. — Ты его не видишь, а он есть. СтоИт там на стене, скушно ему… Может и сюда пялится. Вот как развод будет, так и метнемся. И надо было в полнолунье?
— Никак иначе нельзя, — уверенно разъяснил Шило. — В грамотке Фёдор-Васильича велено строго-настрого: идти во дни полной луны, иначе никак! Чтобы, значит…
— Тс-с-с, — прошипел бывший стрелец. — Вот сейчас. На стене — видишь?
На стене загорелся слабенький, в лунном сиянии почти невидимый огонечек. Похоже, кто-то шел со светом.
— Живо! — скомандовал Чернява.
Оба товарища, стараясь не покидать тени, метнулись ко рву. Первый прыгнул Чернява, еле слышно ругнулся скверными словами. Потом туда же полез монах. Этот задержался на краю, передавая сверток, потом и сам прянул вниз. Что-то шлепнулось, и тоже послышались бранные слова.
— Темно тут, — сдавленным голосом сказал Чернява. — Давай, что ли.
— Да никак искра нейдёт, — пропыхтел Шило, стуча кресалом.
Наконец в руке монаха затеплилась сальная свечка. В ее свете — сильно уступающем лунному — открылось сущее безобразие: ров давным-давно запомоился. Однако монах уверенно направился вперед по каким-то своим приметам.
Комар тем временем совсем уж было достиг лица младенца, но тут его нечаянно смахнули, передавая сверток с рук на руки; хорошо хоть не придавили вовсе. Младенец же ничего не замечал — он был опоен и спал. Сквозь сон он слышал какие-то непонятные для него звуки. Потом почувствовал холод, проникающий сквозь тряпье — его положили на землю, — но проснуться не успел: кто-то снова подхватил сверток и понес. Комар, наверняка выругавшись про себя на своем комарином наречии, прицепился к капюшону монаха, твердо решив дождаться следующей оказии: дело пошлО на принцип…
А двое шли уже по подземному ходу. В колеблющемся свете свечи можно было разглядеть низкие каменные своды. Где-то капала вода.
Проход вел вверх, зато сам становился всё уже и ниже. Чернява пару раз задевал головой за какие-то потолочные выступы, чуть не потеряв свой колпак. Воздух тоже был плохой, спертый.
Наконец они добрались до двери, тяжелой даже на вид. Была она окована железными полосами с грозно торчащими шипами. Ни ручки, ни замочной скважины в ней не было.
Чернява пнул дверь ногой. Та и не дрогнула.
— Погодь, — остановил монах. — Тут секрет есть…
Он передал стрельцу сверток, пал на колени и зашарил возле двери, сверяясь с захватанным по краям пергаментом и подсвечивая себе огнем. Наконец нашел какую-то неприметную щель, засунул туда руку и за что-то потянул. Сверху громыхнуло, и дверь с жутким скрежетом приоткрылась вовнутрь.
— Дай я, — Шило навалился на дверь, та отошла сильнее, потом застряла. Монах протиснулся в проход, и тут впереди что-то заскрипело, зазвякало.
— Господи, помилуй, Господи, помилуй, — зашептал напуганный Чернява.
Звук сделался тише, а потом истаял во мраке.
— Это что такое было? — спросил он тихонько у монаха. — Вроде чепь звенела?
— Чепь, — подтвердил Шило, прикрывая огонек ладонью. — Мы под сАмой башней. Тут колодезь есть. На случай осады. Тайный, токмо для царя и ближников его.
— Слыхал я про такое, — вспомнил стрелец. — Сказывают, в том колодце бадья серебряная на чепи златой.
— Это еще зачем? — удивился Шило.
— Сам рассуди: царёв же колодец! Эта чепь должна годной быть хоть через сто лет: не ржаветь и не портиться. Бадья тож. А в колодце сырость. Теперь сам подумай, из чего такое сделать возможно.
Монах усмехнулся.
— Да брехня всё это, — отмахнулся он. — Мне брат один сказывал. Колодец вправду есть, вот только чепь на нем обыкновенная. Салом смазанная.
— Врет тот брат, — уверенно возразил Чернява. — Я сам служил, и я тебе так скажу: сало это десятник себе в похлебку кладет. А если чего и смазывает… — тут он замолчал со значением.
— Всякое в жизни бывает, — раздумчиво заметил Шило. — Хотя, конечно, грех это. А ежели по совести — что не грех? Всё грех! Прости, Господи, — он с чувством осенил себя крестом. — Ну, двинулись, что ли?
Дальше галерея производила впечатление совсем уж заброшенной: судя по нетронутому слою пыли на полу, тут не ходили, небось, уже лет сто. Теперь монах сверялся со своим пергаментом постоянно.
Читать дальше