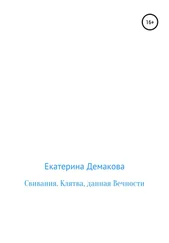Мама молчит. Может, он убил её уже в своих руках, задушил случайно, как, говорят, душит на охоте зверей, когда у него заканчиваются вдруг пули?
– Знаю я, каково со мной жить. Каково тебе денно и нощно с детьми. Как тебе хочется прежней воли. Может, съездишь домой? В ринарские леса, туда, где я встретил тебя? Помнишь, как мы стреляли оленей? Я велел сделать тебе корону из их вызолоченных рогов и тогда же сказал, что только тебя, тебя возьму в жёны вместо иноземных принцесс…
Она смеётся. Или плачет?
– Довольно у меня воли и здесь. И даже счастья.
– Почему же тогда ты к нему…
Откуда силы у неё – вот так разомкнуть и сбросить его руки? Откуда силы поднять заблестевшие глаза?
– Потому что потемнела та оленья корона. Потому что одного у меня не довольно – тебя. Но ничего уже не поделать. У всякой любви есть весна, но всякая весна проходит. А так хочется вторую. Хоть с кем-то. С кем-то, кто не успел тебя измучить.
Снова он, подступив, обнимает её, и на этот раз она сдаётся, крепко сжимает его широкие плечи. Так они замирают, и кажется это нежностью, настоящей нежностью, добела накалённой отгремевшей ссорой… только мама не смыкает длинных ресниц, глядит куда-то в пустоту, и бегут, бегут по её лицу слёзы. Мама замёрзла. Если бы папа мог где-то достать ей весну. Настоящую, а не ту, что приходит каждый год – слякотная, студёная и пустая, заполненная пирами, походами и перевыборами Думы.
Царевна отворачивается, отступает, прижимается к стене виском. Не смеет она дохнуть и шелохнуться, не смеет глядеть, знает: недолгим будет объятье, не спугнуть бы. Мама и папа ругаются всё чаще. Маму и папу давно можно увидеть вместе лишь на пирах, когда собираются бояре и приезжают гости из других стран. При них родителей не разлучить, при них мама опускает папе голову на плечо, а он зовёт её «мой свет» и «голубка». Иногда хочется, чтобы какой-нибудь посол или важный боярин поселился в царском тереме навсегда. Но гости уезжают, а крики остаются.
У мамы и папы много поводов для ссор, но сегодня они поссорились из-за воеводы Грайно – папиного любимца. Немало у него любимцев, особенно среди воевод, несколько и в Думе. Казалось бы: любимец – это пёс или ловчий сокол, про человека так не скажешь, но мама зовёт отцовых друзей именно так. Любимцами . Раньше, произнося это слово, она улыбалась, но сейчас чаще хмурится, взгляд отводит. Может, потому, что любимцы расплодились. Может, потому что отец с ними чаще, чем с ней. А может…
– Подслушиваешь, малютка? Нехорошо. А ну как батьке скажу?
Ложится на плечо рука, голос бархатный у уха журчит. Она оборачивается. Грайно Грозный, тоже встрёпанный после охоты, в грязных алых сапогах, в алом же кафтане, шитом чёрными и серебряными нитями, глядит раскосыми серыми глазами, поблёскивающими из-за упавших чёрных волос. Царевна молчит, пугливо попятившись. Грайно распрямляется во весь рост и нежно, мелодично посмеивается, склоняя к плечу голову. Делает ещё шаг, бряцает ножом и палашом на широком кожаном поясе, украшенном бирюзой.
– Не шуми, – шепчет она, покосившись на дверь. – Мама… И папа. Они заняты.
– Вот как? – Приподнимается широкая бровь-полумесяц, такая странная на узком, будто девичьем лице, которому не прибавляют мужественности тонкие усы. – Ну тогда я здесь с тобой подожду, поговорим пока. Давно я тебя не видел.
И как ни в чём не бывало, словно челядь, он усаживается на пол подле обитой резным дубом стены. Поджимает к груди колени, сцепляет на них длинные бледные пальцы. Блестят перстни: яшма и яхонты, агаты и гранаты. Ни один боярин, ни одна боярская жена не носит за раз столько красоты; богатством хвалиться в простые дни не принято, золото вовсе дозволено лишь царскому семейству. Димира украдкой любуется: ей пока только серёжки разрешают надевать когда угодно, а не в праздники. А вот у Грайно всегда чем-нибудь украшены и запястья, и пальцы, и уши, и шея, и даже волосы…
– Ругаются?.. – тихо, сдавленно спрашивает вдруг Грозный.
Она нехотя кивает.
– Не из-за меня ли?
Столь же нехотя она врёт:
– Я не знаю.
Не верят ей. Чувствует: не верят.
– Скверно тебе, наверное, малютка. Всё понимаешь… быть бы тебе дурочкой.
Щиплет в глазах. Потупившись и стиснув зубы, она упрямо жмурится.
– А хочешь, женюсь на тебе? Может, годка через два? В походы буду возить, в жемчуга наряжать! И не будешь ты всё это видеть.
Она испуганно глядит в упор. Грайно, приподняв подбородок, смеётся.
– Шучу. Стар я для тебя. Так, шучу, чтобы не вешала нос. Ну или пугаю…
Читать дальше
![Екатерина Звонцова Серебряная клятва [litres] обложка книги](/books/394485/ekaterina-zvoncova-serebryanaya-klyatva-litres-cover.webp)
![Екатерина Урузбиева - Охота на Тени [litres]](/books/391304/ekaterina-uruzbieva-ohota-na-teni-litres-thumb.webp)
![Хеленкей Даймон - Нарушенная клятва [litres]](/books/391375/helenkej-dajmon-narushennaya-klyatva-litres-thumb.webp)
![Екатерина Соболь - Медная чайка [litres]](/books/395202/ekaterina-sobol-mednaya-chajka-litres-thumb.webp)
![Стина Джексон - Серебряная дорога [litres]](/books/398647/stina-dzhekson-serebryanaya-doroga-litres-thumb.webp)
![Джейн Портер - Заманчивая свадебная клятва [litres]](/books/401312/dzhejn-porter-zamanchivaya-svadebnaya-klyatva-litres-thumb.webp)
![Рейчел Хартман - Серебряная кровь [litres]](/books/402424/rejchel-hartman-serebryanaya-krov-litres-thumb.webp)

![Мелинда Ли - Последняя клятва [litres]](/books/432653/melinda-li-poslednyaya-klyatva-litres-thumb.webp)