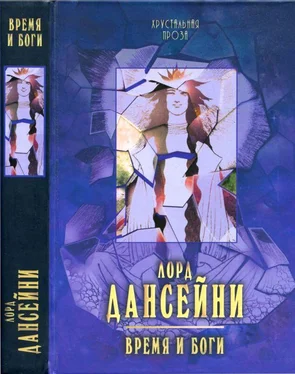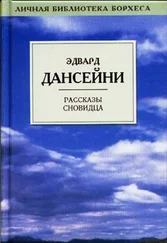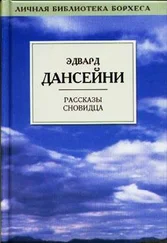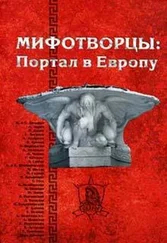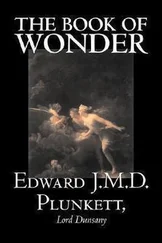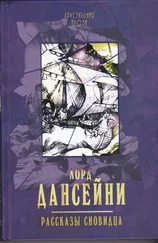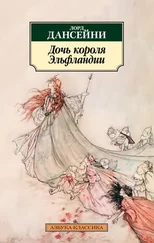Возвращаясь из странствий на родину, Дансейни жил по преимуществу в своем поместье в Сторхэме, графстве Кент, в 20 милях от Лондона. Он принимал горячее участие в жизни соседней деревушки, знал по имени всех ее обитателей, участвовал во всех праздниках сельчан. В Сторхэме писатель провел и Вторую мировую войну, не желая уезжать в безопасный родовой замок в Ирландии. То была не бравада, а глубокая убежденность в том, что иначе поступить нельзя, что он должен делить все тяготы и опасности военного времени (в том числе и бомбежки) с людьми, с которыми его связывала многолетняя дружба, основанная на взаимном уважении и приязни. И похоронен он (скончался Дансейни 25 октября 1957 года), согласно его последней воле, не в родовом замке в графстве Мит, невдалеке от знаменитой Тары, древней столицы ирландских королей, а на кладбище в Сторхэме, рядом с друзьями-соседями.
Дансейни начал писать очень рано, не думая, что литература станет для него делом жизни, и не мечтая, подобно многим подросткам, о славе (до конца дней он относился равнодушно к внешним приметам успеха). Писал потому, что не мог не писать, подтверждая своей судьбой справедливость и точность формулы творчества, данной замечательным поэтом и переводчиком Юрием Айхенвальдом: «Нет профессии поэта, как нет профессии у света: он светит просто потому, что деться некуда ему».
Как вспоминал Дансейни, в детстве на него оказали большое влияние сказки братьев Гримм и Х. К. Андерсена. Затем — греческая мифология, Гомер. Но своим стилем, образным строем писатель, по его словам, обязан Библии.
Материалом для творчества Дансейни служил не только его богатейший жизненный опыт (которого хватило бы на несколько судеб), но опыт прежде всего душевный, интеллектуальный, о чем он сам сказал так: «Владение литературной техникой не создает произведения искусства, его основа — подлинное человеческое чувство».
В книге X. Литтлфилд приводится примечательное высказывание Дансейни о том творческом импульсе, благодаря которому включается его творческая фантазия: «Я никогда не охочусь за идеей. Она должна прийти ко мне — и я должен быть потрясен ее чудом. Я выхожу за пределы реальности в большинстве того, что я пишу, потому что я предпочитаю стремиться к высокой цели. Зачем стрелять по кролику, если у вас есть возможность поохотиться на тигра? Если вы выбираете значительную проблему, то вырезаете статую из нефрита, а не из мыльного камня. Но писать о небывалом и фантастическом не так просто. Если вы имеете дело с невероятным, вы должны сделать его вероятным, иначе читателю будет неинтересно».
Диапазон творчества Дансейни весьма широк: стихи и рассказы, романы и эссе, пьесы и путевые заметки. Его излюбленной художественной формой был рассказ, для произведений большого объема, по собственному признанию писателя, ему не хватало терпения. Дансейни буквально бурлил идеями и замыслами, стремясь тут же воплотить их на бумаге — не даром один критик назвал его «скорее резчиком по камню, нежели каменщиком».
* * *
Популярность Дансейни основывается, прежде всего, на его рассказах. В настоящем издании рассказы писателя представлены так широко, как никогда до этого на русском языке. В издание включены десять сборников Дансейни: «Боги Пеганы» (1905), «Время и боги» (1906), «Меч Веллерана» (1908), «Рассказы сновидца» (1910), «Книга Чудес» (1912), «Пятьдесят одна история» (1915), «Новейшая Книга Чудес» (1916), «Рассказы трех полушарий» (1919), «Человек, который съел феникса» (1949), «Рассказы о Сметерсе и другие истории» (1952).
Широкая известность пришла к Дансейни после выхода первых сборников рассказов, «Боги Пеганы» и «Время и боги».
Действие цикла о богах Пеганы происходит в мифологическом, сказочном пространстве, существующем, согласно жанровым законам фэнтези, «где-то» и «всегда». Этот цикл, как отмечают критики, первая со времен Блейка попытка в английской литературе создать фантастическую космогонию. Демиург Мана-Йуд-Сушаи, существующий в «туманной мгле, предшествовавшей Началу» сотворил богов Пеганы, лег отдыхать и уснул. Среди созданных богов был Скарл-барабанщик. День за днем, век за веком Скарл бьет в барабан, чтобы боги вершили предначертанное. Но стоит ему прекратить, как творец всего сущего Мана-Йуд-Сушаи проснется и исчезнут мир и боги. Не об этом ли писал Шекспир в «Буре»: «Мы созданы из вещества того же, /Что и наши сны. И сном окружена /Вся наша маленькая жизнь».
Пегану населяют разные боги — от творцов мироздания до богов сугубо домашних: это Кайлулуганг, который уносит прочь дым очага; Джейбим — он следит за порядком в доме, оплакивает сломанные и выброшенные вещи; Грибаун — он сидит в огне и обращает дрова в тепло; Хиш, повелитель молчания — благодаря ему ночью воцаряется тишина. Боги Пеганы антропоморфны, их внешность, образ жизни, привычки во многом напоминают древних японских богов — они, по выражению специалиста по средневековой литературе Японии Е. М. Пинуса, «наивные и могучие, возделывающие рисовые поля и рождающие детей, танцующие и хохочущие», были одинаково способны «и на величайшую жестокость, и на героические деяния для блага людей». Все, что происходит с богами Пеганы (в том числе и незначительные, казалось бы, события), тысячекратно, громоподобно отзывается в мире людей. Например, день на Земле начинается потому, что любимый ребенок богов Инзана, прозванная Зарей, радостно смеясь, запускает в небеса золотой мячик.
Читать дальше