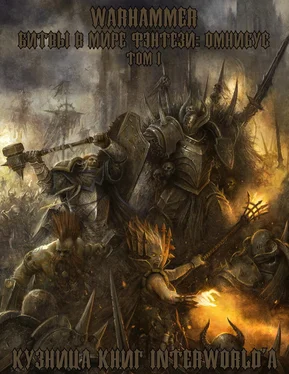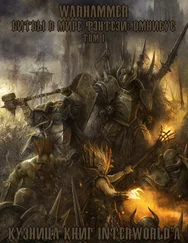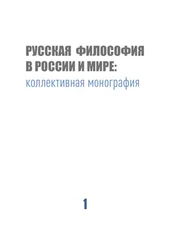И вот наконец показался вход в храм. Кноблаух стоял на страже. Проходя мимо, воспитанники строились в сомкнутые ряды по обе стороны зала перед лицом высокого и далёкого идола. Факелы, которые они несли, отбрасывали тусклый свет на гобелены, висевшие на стенах, скрытых туманом, что тоже собрался в храме, как будто занесённый сюда крыльями круживших сов и летучих мышей. Сам идол, настолько высокий, что его руки почти достигали крыши, был едва различим. Впрочем, это не имело значения. Хенкин знал со спокойной уверенностью, что бог был уважаем в этом храме: тот, чей закон поддерживал не только крышу, но даже небо, тот, которому он уже был посвящён, и тот, кто привёл его сюда спустя два десятилетия.
Ах! Сколь немногие могут похвастаться, что столь же долго хранили зарок, данный в юности!
Хенкин вошёл. Он ощутил удивительную неуверенность, была ли то мысль, что непрошенной возникла в его разуме, или то были произнесённые Альберихом слова — за которыми последовало нечто, что, как ни странно, прозвучало как смешок. Он сделал было попытку спросить, но его опередили. Кноблаух качнул створки, и тяжёлые двери закрылись с оглушительным стуком, и в тот же миг гонг — который к этому времени стал почти оглушительным — смолк.
Окружённый атмосферой всеохватывающего ожидания, Хенкин обнаружил себя идущим по центральному проходу храма — воспитанники замерли вокруг, словно каменные истуканы, не шевелясь, даже когда капли расплавленной смолы падали с факелов на обнажённые руки, с неописуемой тоской глядя на укрытого туманом идола. Хенкин вспомнил эту тоску сейчас, как она мучила, как она воспалялась, как она могла быть смягчена лишь церемонией, подобной той, что проводилась в сей миг.
Тем не менее, не было ни пения гимнов, ни процессии пышно одетых псаломщиков, ни фимиама, ни кучи даров, ни одного из тех пустяков, которые было так легко найти в любом ином храме. Конечно же, нет. Этот обряд был уникален.
Это, в конце концов, было Место Тихого Собрания.
Сами по себе его ноги перестали двигаться. Он стоял перед статуей. Если он поднимет голову, то сможет узнать её, и имя, что вертелось на языке, будет произнесено. Плод его образования созреет в тот же миг. Он станет наилучшим слугой делам бога — чего, с прошедших школьных годов, он хотел больше всего на свете.
Недоумевая, почему не вернулся сюда уже давным-давно, присоединившись к Альбериху и Кноблауху, Юргену и Вилдгансу и остальным, он оглянулся по сторонам, ища одобрения. И встретил поощряющую улыбку настоятеля.
По крайней мере, он заставил себя поверить, что это была улыбка. Она включала в себя губы, приоткрывшиеся над множеством зубов, что было поразительным для такого старого человека, и некое ожидание, сквозившее в его взгляде, так что…
Решив не смотреть слишком долго, Хенкин уцепился за остатки радости, что наполняла его на пути сюда — теперь, по неизвестной причине, начавшей рассеиваться — и смело запрокинул голову, чтобы взглянуть на образ бога.
И застыл, разрываемый между обожанием и недоумением.
То, что доставало до крыши — не было руками. Те руки, что были там, венчали чудовищные лапы, а ноги оканчивались огромными широкими ступнями. Однако кое-что вздымалось и над ними, прорастая из отвратительной головы, это были… рога? Нет — щупальца! И они изгибались! И когда они, изогнувшись, обратились к нему, то он увидел, что каждое заканчивается глазеющим, обрамлённым короной из ложноножек лицом…
Оно заговорило — каким из трёх ртов, Хенкин понять не мог. Оно заговорило голосом, напоминающим скрежет трущихся горных пород, предвещающих оползень в долине, когда вешние воды подмывают склон холма.
— Произнеси моё имя. Тебе нужно лишь произнести моё имя и жизнь без ограничений ждёт тебя. Вечная жизнь!
Имя возникло, почти. Тем не менее, где-то в сокровенных глубинах сознания Хенкина, что-то воспротивилось. Какая-то часть его возмутилась, её воображаемый голос был почти сварливым — как у матери, когда отец раздражал её, побеждая в споре — из чувства, можно сказать, стойкого упрямства.
«Это не бог Закона, — подумал он. — Он больше похож на того, с кем я боролся на протяжении всей своей жизни!»
Всё это время, которое Хенкину казалось половиной вечности, он стоял перед статуей, замерев в недоумении. Он знал имя, которое должен был произнести. Он совершенно никак не мог вспомнить какое-либо другое. Из этого следовало, по извращенной логике, которая держала его в своих руках, что он должен был произнести то единственное, которое мог произнести.
Читать дальше