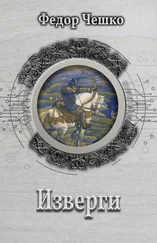Кораблевладелец. Купец. Бог знает, сколько ему лет – может, тридцать, а может, и пятьдесят – весь он какой-то просмоленный, просоленный; в не по-свейски вороных бородке да патлах ни единого седого волоска не видать… Но лицо морщинисто, как у старца. А с другой стороны, пожилой бы вряд ли отважился в этакую стылую мокреть вылезти на палубу в одних штанах.
И ведь ишь же как ловок чесать по-нашему, черт скандийский! Правда, и ты по-ихнему не менее ловок. И вот как в Йеллинге первыми словами перекинулись, так по сию пору и беседуется с этим Эриком замысловато: ежели он к тебе словенскою молвью, ты ему непременно в ответ по-свейски… Кто слышит со стороны, небось, мнит вас обоих оскорбевшими разумом.
– Ох-хо-хо! – Кораблевладелец Эрик с видимым удовольствием растирает моросную влагу по волосатой своей крепкой груди. – Зачем сегодня везде столько воды, хольмгардец? И это после вчерашнего, когда меня мутит от любого воспоминания обо всем, что умеет литься и булькать!
Зевает во всю пасть, зачем-то дергает себя за волосья…
– Молчишь, хольмгардец? Не молчи, поговори со мной! – Ну вот никак неймется веселонравному пьянчуге. Кабы заранее знать, что аж этак он разговорчив – ей Богу, лучше б чей другой корабль подыскать. И ведь что интересно: распатякивает почти без умолку, а сколько о самом нем узналось? С лягушачье крылышко. Только то, что гребцам да прочим его людям ведомо, а и они знают немного. Да еще вот давеча спьяну прохвалился, будто не только словенской молви обучен, но и ромейской; а по-гречески якобы говорит так вольно, что греци его считают за своего (при эриковой, кстати, смоляной образине то и не диво)… Мутный он, в общем – с таким нужно ухо держать востро. Ан, впрочем, и ты-то сам не больно прозрачен…
А мутному Эрику все не молчится:
– Хольмгардец… Дрот… Что за прозванье такое – Дрот?
– Дрот – это копье. Легкое, которое для метанья.
– Ловок, что ль, в обращеньи с таким?
– Ловок. И не лишь с таким. И не с одними лишь копьями.
– То заметно, – кораблевладелец Эрик важно кивает. – Слушай, Дрот-хольмгардец, а плыви-ка ты и дальше со мною. По-нашему разумеешь, с оружьем ловок… Поплыли до теплого моря, а? Я плачу щедро…
– Нет. Сговаривались до Господина Великого, до Хольмгарда то-есть. А уговор – он любой наищедрейшей платы дороже.
– Ждут тебя там?
– Ждут.
– Не жена ли?
– Жена.
– Обрадуется тебе?
– Еще бы… (Господи, ниспошли мне терпение!)
– А этой?.. – кораблевладелец Эрик ехидно щурится, – девке, которую ты в Йеллинге выкупил да с собою везешь – ей твоя жена тоже обрадуется?
– И ей обрадуется. (Боже, за что караешь! Терпенья уже нет никакого, а до Новагорода еще целых три дня пути!)
– Сродственница она ей, что ли? Может, сестра?
– Больше.
Чудо: Эрик на какое-то мгновенье смолкает – видать, обдумывает услышанное. Так ничего и не поняв, затевает опять:
– А где ты выучился так складно говорить по-нашему?
Вот же ж навязался допросчик… В пекло бы тебя, да поглубже – в самый что ни на есть жар бесовской смоловарни! Я ведь не выпытываю, где ТЫ чему выучился…
– А я долго вашей речи научаюсь, – (Получай, стервь липучая, получай! Неужто ты и после этого не отстанешь?!) – В нынешнюю жизнь, и в прошлую… Награда мне, вишь, да еще кой-кому такая пожалована: все допрежнее помнить и раз за разом встречаться. Понял?
Молчит не в меру любопытный корабельщик-купец. Хмурится, кривится с этаким нехорошим подозреньицем, но молчит. Вот так бы подольше…
Нет, ни черта ты не понял, друг-скандиец. И ни черта не поймешь, хоть до завтрева морщи лоб да трепли смоляную свою скудную бороденку. Я ведь и сам-то не шибко уже что-либо понимаю. Награда… Помнить… В том и загвоздка, что по-настоящему, не как с чужих маловнятных россказней, помнится уже только…
Только…
…Лес, недоеденный когдатошним пожаром – толпа двуохватных стоячих трупов; бурые пряди мха виснут с культеподобных угольных сучьев; мучительно, но вместе с тем же как бы и радуясь труднопостижимым своим мучениям щерится ввысь, в воспаленность болезненного заката грубое деревянное идолище – то ли конь, то ли собака, то ли боги знают что еще; иззубренный кремневый нож нависает над шеей привязанного к алтарю черного жеребенка… И голос – то ли стонущий, то ли поющий:
"Жизнь, нежиль… Тонка межа.
И смерть, и роды – мученье.
Одно движенье ножа
Врезает в гибель рожденье.
Горячий багряный свет
На полосу мрака брызнет –
И черное выпьет цвет,
И нежиль напьется жизни.
Пускай остреный кремень
Плоть смертной мукою гложет,
Пусть тень перельется в тень
Того, кто прийти не может,
Но может на миг вдохнуть
В рожденные смертью жилы
Ничтожную долю-чуть
Своей всемогущей силы."
Читать дальше
![Федор Чешко Ржавое зарево [litres] обложка книги](/books/399417/fedor-cheshko-rzhavoe-zarevo-litres-cover.webp)



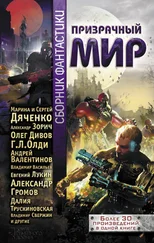



![Федор Чешко - Между степью и небом [litres]](/books/398682/fedor-cheshko-mezhdu-stepyu-i-nebom-litres-thumb.webp)
![Федор Чешко - Изверги [= Урман] [litres]](/books/399418/fedor-cheshko-izvergi-urman-litres-thumb.webp)