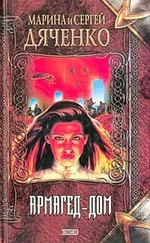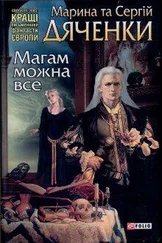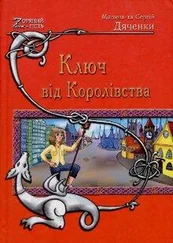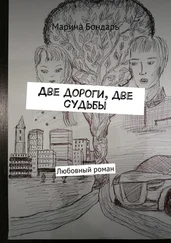Внутри моего мелового круга неприлично быть победителем. И страшно быть побежденным. Остается только уклониться от схватки, но тот, кто уклонился — жалок…
Из моего круга нет выхода. И день ото дня он становится все уже.
— Что с тобой? — спрашивает он.
Я пялюсь остановившимися глазами мимо него туда, где прыгает на ветке какая-то желтая птичка.
— Ленка… Ты чего?
Трясу головой:
— Ничего…
— Вообще я не люблю, когда так смотрят мне за спину, — говорит он после паузы. — Ты как будто привидение увидела.
— Я никогда не думала, что останусь с тобой надолго, — говорю, едва шевеля губами.
— Что?
— Витенька, а я ведь тебя старше…
— Здрассьте, — он осторожно ставит на траву поднос с орешками. — С чего бы это ты?..
«И в этой зыбкости, в болтанке штормовой,
ведя за ручку сонного ребенка,
ты задеваешь звезды головой,
чтоб знал, как хорошо с тобой,
как звонко,
как ничего не страшно, как светло,
как нежно, как таинственно, как свято!..»
Он улыбается и проводит рукой перед моим лицом:
— Ленка…
— Чего ты?
— Ты останешься со мной? Надолго?
— Навсег… — начинаю я, но самое мелодраматическое из всех слов не желает ложиться ко мне на язык.
Он кивает.
«Но, когда серебристая цапля
грусть мою, как последняя капля,
переполнит в осенний четверг,
пролетая над полем свекольным…»
А чем зрители во всех этих казино и развлекательных комплексах, в тех самых, где ставят ринги, чем они отличаются от зрителей программы «Щели»?
Они такие же.
Конечно, бокс честнее… Бить, рискуя попасть под удар, сражаться на равных — это, по крайней мере, естественно для человека… для мужчины. Да. Наверное, это естественнее, чем пожирать на игрушечном ринге карамельные лифчики и пересказывать похабные анекдоты, заменяя ключевые слова эвфемизмами «Африка» и «Гондурас»…
Ты играешь со зрителем, как истощенная больная кошка с миллионом крепких мышей. Но ты кошка. И они ведутся.
А он крысиный лев, выведенный на потеху публике… А публика ждет нокаута. Это тебе не теннис и не водное поло… Публика обязательно хочет крови. И рефери в белом, чтобы кровь на рубашке была виднее…
Гладиаторы, те хоть были рабами.
«…я каким-то чутьем треугольным
забиваю спасительный клин
в серебристое воспоминанье,
чтобы сердца последнее знанье
не опошлить концовкой счастливой.
День недолог, а путь мой так длин…»
Что, опять не нравится?
Прости.
— С кем ты разговариваешь?
Лежим в обнимку под шелковыми простынями.
— Ни с кем. С тобой.
— Мне кажется, что ты будто по телефону разговариваешь… Молча.
— Так не бывает.
— Вот и я говорю… Ленка, я тебе все про себя рассказал… Ты все знаешь.
Смеюсь.
— А ты… так и не скажешь мне?
— О чем?
— Об этом.
— Ты даешь… Как я догадаюсь, о чем, если ты не говоришь?
Мрачнеет.
«Я хуже, чем ты говоришь.
Но есть молчаливая тайна:
Ты пламенем синим горишь,
Когда меня видишь случайно.
Я хуже, чем ты говоришь…»
— Должна быть в женщине какая-то загадка, — сообщаю доверительно. — Должна быть тайна в ней какая-то. Помнишь такой фильм?
— Нет, — говорит он серьезно. — Но если ты не скажешь… Я догадаюсь.
Рисую меловой круг на паркете. Мел ломается. Рассыпается крошкой.
По темной комнате ходят тени.
Машина проехала — прошарили фары по потолку.
Кому мне молиться, чтобы меня не нашли?
Я не переживу, если меня вытащат. Чешуя моя высохнет, а глаза, не знавшие света, ослепнут. Кому мне молиться?
«Положи этот камень на место,
В золотистую воду,
В ил, дремучий и вязкий, как тесто
Отпусти на свободу!»
— Отпусти на свободу, — шепчу одними губами.
Я проклята. Я была проклята в тот момент, когда добровольно отказалась быть собой; что поделать, я слабая. Не всем же выходить на ринг…
Он кажется своим, и в этом вся беда. Если бы он был чужим — никогда не заметил бы моего круга… Прошел бы мимо, не глядя, и все было бы хорошо…
«Отпусти этот камень на волю,
Пусть живет как захочет,
Пусть плывет он по синему морю,
Ночью в бурю грохочет»…
Он придвигается близко. Очень близко. Трогает губами мой нос:
— Если выбросит вал шестикратный
Этот камень на сушу,
Положи этот камень обратно
И спаси его душу…
Читать дальше