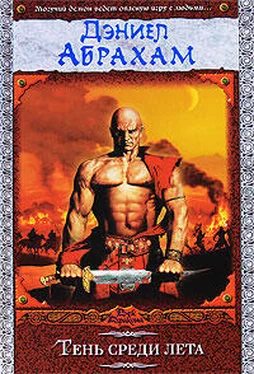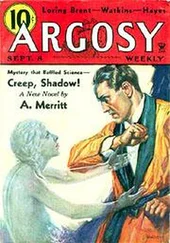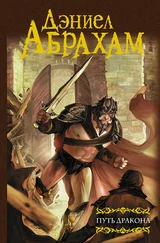— Нет, вряд ли. Кто тебе сказал, что Ота…
Бессемянный откинулся в кресле и принял позу победоносности.
— А какая между нами — грузчиком и андатом — разница, если ты отметаешь его грехи и не прощаешь моих?
Маати улыбнулся.
— Ты — не он.
— И его ты любишь, — добавил андат.
Маати ответил жестом утверждения.
— А любовь важнее справедливости, — закончил Бессемянный.
— Иногда — так.
Андат улыбнулся и кивнул.
— Какая жуткая мысль, — проговорил он. — Что любовь идет рука об руку с несправедливостью.
Маати пожал плечами. Андат в ответ снова взял коричневую книгу и принялся шуршать рукописными страницами, словно что-то искал. Маати зажмурился и вдохнул пары вина. Ему стало так спокойно, словно сон — настоящий сон — был уже недалеко. Он медленно покачивался в кресле, невольно попадая в ритм с сердцебиением. Но смутное ощущение тревоги разбудило его, и он, не открывая глаз, произнес:
— Не говори никому об Оте-кво. Если его семья узнает…
— Не узнает, — сказал андат. — По крайней мере, не от меня.
— Я тебе не верю.
— На этот раз можешь поверить. Хешай ведь старался быть хорошим учителем. Ты это знаешь? Несмотря на все те гадости, которые мы позволяли себе в своей междоусобице, ты был принят в наш дом, и…
Андат вдруг осекся. Маати открыл глаза. Бессемянный не смотрел ни на него, ни в книгу. Его взгляд был устремлен на юг, как будто что-то по ту сторону стен, деревьев и расстояний приковало его и не отпускало. Маати невольно проследил за ним, но, кроме стен, ничего не увидел. Когда андат обернулся, его лицо светилось восторгом.
— Что случилось? — спросил Маати, леденея от дурного предчувствия.
— Ота-кво, — сказал Бессемянный. — Он тебя простил.
Горела единственная свеча, отмеряя ночные часы. На кушетке, где Ота его и оставил, спал поэт. Его лицо в тусклом свете казалось выцветшим. Он спал с разинутым ртом, дыша глубоко и ровно. Мадж опустилась рядом с ним на колени, всмотрелась. Ота закрыл дверь.
— Он это, — глухо сказала Мадж. — Тот, что поступай так со мной. С моим ребенком.
Ота вышел вперед, стараясь не греметь бутылками на полу и двигаться бесшумно, чтобы не разбудить спящего.
— Да, это он.
Мадж молча вытащила из рукава нож — кинжал с длинным, с ладонь, лезвием, но уже пальца. Ота тронул ее за руку и покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Надо тихо.
— А как тогда?
Ота пошарил в рукаве и достал шнур. Он был совсем тонкий, сплетенный из бамбукового волокна, зато такой крепкий, что выдержал бы вес Оты и не лопнул. Концы шнура заканчивались деревянными ручками, чтобы он не врезался в пальцы, если его затянуть. Оружие подлеца. Ота смотрел на свои руки, как на чужие. Тяжесть в животе разлилась, заполнила его изнутри, выплеснулась в мир и оторвала от всего сущего. Он был словно кукла, которую дергали за невидимые нити.
— Я держать его, — сказала Мадж. — Ты делай.
Ота посмотрел на спящего, не чувствуя ни ярости себе в помощь, ни ненависти в оправдание. На миг ему захотелось все бросить, разбудить поэта или позвать стражу. Было бы так просто, даже сейчас, повернуть назад. Мадж как будто прочла его мысли. Ее неестественно-светлые глаза смотрели на него.
— Ты делай, — повторила она.
«Он готов сам напороться на нож…»
— Ноги, — сказал Ота. — Я разберусь с руками, а ты держи ноги, чтобы не брыкался.
Мадж подобралась так близко к кушетке, что, казалось, была готова забраться на нее рядом с Хешаем, и занесла руки над бугром его коленей. Ота свернул из шнура петлю, чтобы набросить поэту на голову, нащупал выемки на рукоятках. Шагнул вперед. Звон опрокинутой бутылки громом разорвал тишину. Поэт покачнулся и сонно приподнялся на локте.
Руки Оты точно ждали этой команды. Он молниеносно набросил петлю и затянул. Тихая возня Мадж, налегшей поэту на ноги и давящей, тянущей его вниз, осталась где-то далеко. Поэт тянулся руками к горлу, пытаясь ухватить шнур, который почти исчез, врезавшись в кожу. У Оты плечи горели от напряжения, пальцы свело, но он изо всех сил продолжал тянуть. Лицо поэта побагровело, губы стали почти черными. Ота закрыл глаза, но хватки не умерил. Сопротивление поэта слабело, движения рук, тянущихся к удавке, превратились в мягкие шлепки младенца, а потом и вовсе утихли. В темноте сомкнутых век Ота продолжал тянуть, боясь, что если он остановится слишком рано, придется начинать все заново. Где-то зажурчало и запахло испражнениями. Спина Оты напряглась, как тетива. Он сосчитал дюжину вздохов, потом еще полдюжины и открыл глаза.
Читать дальше