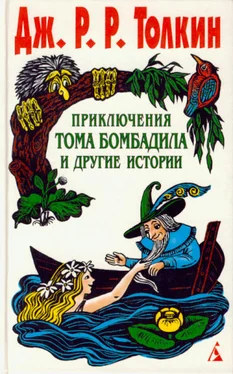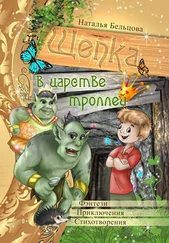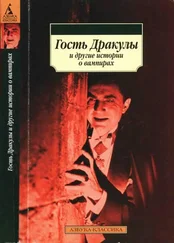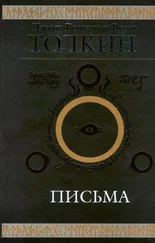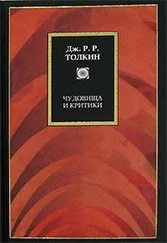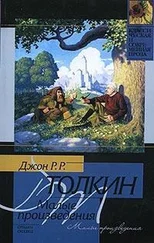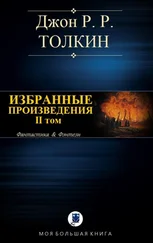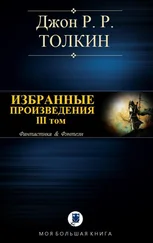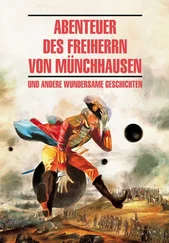Я осмелюсь сказать, что, рассматривая с этих позиций историю Христа, я уже давно чувствую (и чувствую с радостью): Господь искупил грехи людей (существ, способных творить, но падших) именно таким путем, который соответствовал этой стороне (как, впрочем, и другим) их странной природы. В Евангелиях содержится волшебная сказка или, скорее, всеобъемлющий рассказ, вмещающий в себя суть всех волшебных сказок. В них (Евангелиях) есть множество чудес, отмеченных высоким Искусством [60], прекрасных и трогательных, «мифических» в своей совершенной, самоценной значимости. И среди них — величайшая и наиболее полная эвкатастрофа, какую только можно себе представить. Но этот рассказ вошел в историю и в первичный мир. Вместо стремления творить вторичные миры перед нами — исполнившееся Сотворение мира первичного. Рождество Христово — эвкатастрофа истории человечества. Воскресение — эвкатастрофа истории Воплощения. Рассказ начинается и кончается Радостью. Он в высшей степени обладает «внутренней логичностью реальности». Верить в него люди хотят больше, чем в любой другой рассказ. Нет другого такого рассказа, который столькие скептики признали бы истиной за его собственные достоинства. Он убеждает, ибо говорит голосом Первичного Искусства — Сотворения. Отвергать его — значит прийти либо к скорби, либо к гневу.
Нетрудно представить себе, что особенное возбуждение и радость можно почувствовать, если исключительно прекрасная волшебная сказка окажется истиной в первичном мире, а ее сюжет — историческим, и если при этом сказка не потеряет мифической и аллегорической значимости. Нетрудно, потому что при этом нет необходимости представлять себе что-то совсем незнакомое. Радость будет точно такой же по характеру (разве что более сильной), как радость от «поворота» в сказке, потому что «сказочная» Радость пахнет истиной первичного мира. Иначе она не звалась бы радостью. Она полна ожидания Великой Эвкатастрофы (или воспоминаний о ней: в данном случае различие несущественно). Христианская радость, Gloria, сродни ей, но невероятно (я бы сказал — бесконечно, если бы наши способности не были конечны) высока и полна счастья. Рассказ о Христе выше всех прочих, и то, что в нем говорится, — правда. Реальность подтвердила Искусство. Господь — владыка ангелов, людей... и эльфов. Легенда и история встретились и слились.
Но в Царстве Божием великое не подавляет малое. Спасенный человек — по-прежнему человек. Сказка и Фантазия по-прежнему существуют и должны существовать. Благовествование не искоренило, а освятило легенды, в особенности счастливую концовку. Христианин должен, как и раньше, трудиться духом и телом, страдать, надеяться и умереть. Но теперь он может осознать, что все его способности и стремления существуют ради святой цели. Милость, которой он удостоен, столь велика, что он не без оснований осмеливается предположить: его Фантазия действительно помогает расцвету и многократному обогащению мироздания. Все сказки могут воплотиться в жизнь. Но в конце, пройдя очищение, они станут такими же похожими и непохожими на формы, которые мы им придаем, как Человек, спасенный во веки веков, будет похож и непохож на падшее существо, знакомое нам.
В такие истории «чудеса» включаются и используются в сатирических целях. Мотив сновидения в них — не просто прием для оформления завязки и развязки: он постоянно ощущается и в самом действии. Все это вполне может нравиться детям, если им не мешать. Но если «Алиса» представлена им как волшебная сказка (а мне и многим-многим другим детям ее представили именно так), мотив сновидения вызывает внутренний протест. А вот в «Ветре в ивах» Кеннета Грэма нет даже намека на сон. Сказка начинается так: «Крот учинил весеннюю уборку в своем домике и все утро трудился не покладая рук»,— и этот верно выбранный тон сохраняется до конца повести. Тем более странно, что А. А. Милн, восторженный почитатель этой прекрасной книги, предпослал своему переложению «Ветра в ивах» для сцены «игрушечный» пролог, где ребенок беседует по телефону с нарциссом. Впрочем, может, это не так уж и странно, поскольку толковый почитатель, в отличие от восторженного, ни за что не стал бы переделывать повесть для сцены. Перенести в пьесу возможно лишь самые простые элементы книги — то, что в ней есть от пантомимы и сатирической сказки о животных. Правда, пьеса (конечно, не на уровне высокой драматургии) получилась довольно сносная, особенно для тех, кто книгу не читал. Но дети, которых я водил на «Мистера Жаба из Жабьей Усадьбы» (так называется переложение Милна), запомнили главным образом тошноту, вызванную прологом. В остальном они предпочитали полагаться на воспоминания о книге.
Читать дальше