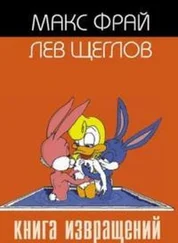Что они вытворяли, пересказывать бессмысленно, я все равно не напишу так, чтобы вы умерли на месте и тут же возродились, счастливые, приплясывали, прищелкивали пальцами в такт и гримасничали, заливаясь слезами, слаще которых нет ничего.
Неважно.
Но какие-то проходившие мимо экзотические люди в чалмах и бурнусах остановились, стали кланяться музыкантам, а один из них поцеловал землю перед трубачом-вокалистом, а тот совсем не удивился.
В какой-то момент трубач сказал: «Скоро десять. В десять мы должны перестать играть. Потому что зажгутся фонари, и вы увидите, что мы не отбрасываем тень». Ну, не слово в слово, но примерно так. И старики заиграли последнюю песню, про «Wonderfull World», и тут уж добрая половина присутствующих залилась смехом и слезами одновременно, потому что поняли наконец, что смерти нет — иногда. А иногда есть. А потом снова — ррраз! — и нет. И это всех нас некоторым образом касается.
И это, надо понимать, была та самая месса, которой стоит Париж. Дорого, очень дорого он стоит, раз так.
Когда мне было два года и бабушка пыталась поместить в мой организм полезный продукт творог-с-комками, гаже которого был разве только гороховый суп, с которым мы, впрочем, встретились несколько позже, — так вот, чтобы помочь как-то пережить роковую встречу с творогом, бабушка давала мне коробку с пуговицами. Нет, не так, произносим с придыханием, пишем с большой буквы: Коробку-с-пуговицами. Пуговицы были всех цветов радуги, всех мыслимых размеров и форм, гладкие и фактурные, некоторые с перламутром, некоторые с позолотой, некоторые стеклянные. Попадались среди них пуговицы цвета хаки, со звездами, от папиной военной формы. Были с картинками, от детской одежды; хорошо помню белую с красной мухой и желтую с огненным цыпленком.
Пуговицы можно было разглядывать и даже брать в руки; за это мне приходилось торговать телом — в смысле глотать ужасающий творог. Но даже эта мука не могла отвратить меня от любимого занятия. С тех пор, читая в книжках про сундуки с сокровищами, я всегда сперва представляю бабушкину коробку с пуговицами и только потом, спохватившись, рисую перед внутренним взором настоящий сундук с драгоценностями и сразу перестаю завидовать владельцам сокровищ — подумаешь, великое дело.
Так вот. Гулять по Праге — это все равно что без присмотра рыться в той самой бабушкиной коробке, только — о счастье! — никакого творога.
Здесь все, ясное дело, цветет, бегают собаки, с которыми, если верить табличкам, можно ходить буквально везде; здесь девочки фотографируют друг дружку на Карловом мосту, сняв пальто и усевшись на перила, принимают неестественные позы, чтобы ни единой складочки не образовалось на животе; здесь, если высунешься ночью из окна, прохожие задирают головы и говорят: «Ой, здрасьте», — и много чего еще. Здесь, словом, вполне человеческий мир, где любить людей очень просто, но многие, я знаю, отлынивают все равно.
В последний мой приезд сюда, давным-давно, до наводнения, все было совсем иначе, гораздо серьезней, что ли. Кукольный домик старался казаться Домом-с-Привидениями, и ему это почти удавалось. Теперь не то, и славно, мне больше нравится, когда правду о себе говорят сразу, чего тянуть. Впрочем, ее еще знать надо, эту самую правду о себе, а это мало кому удается.
В пражской коробке с пуговицами и я чувствую себя рассыпавшимися бусами, собирать которые вряд ли кто возьмется, как-нибудь сами соберутся потом, и будет их, подозреваю, штук на пять больше, чем прежде, или даже на целую дюжину, как пойдет.
Ромул, конечно, не убивал брата своего Рема. Просто иногда с близнецами случается такое, что проще сказать «убил», чем объяснить, как оно было на самом деле.
Рим, судя по всему, самый красивый город на земле. Когда он хочет выглядеть как человек, у него голубые глаза размером с два моих каждый, резко очерченные скулы, темный бронзовый загар, юное мальчишеское лицо и седые кудри. И он курит. По крайней мере, попросил меня свернуть ему вишневую сигарету. Так, собственно, и познакомились. В честь этого события уличные музыканты на Piazza del Popolo грянули «Innuendo», ту самую композицию ВИА «Королева», которая лишает меня разума. Руки и уши у них росли явно из одного и того же места, в просторечии именуемого жопой и совершенно не приспособленного к отращиванию рук и ушей, но это я теперь, задним числом, понимаю, а в тот миг два потока устремились по позвоночному столбу навстречу друг-другу — сверху вниз лед, снизу вверх пламя, и стал свет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
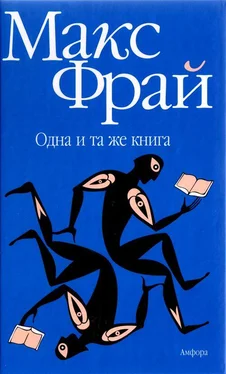

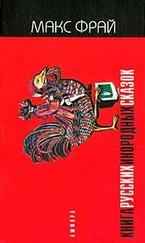

![Макс Фрай - Одна и та же книга [сборник]](/books/25818/maks-fraj-odna-i-ta-zhe-kniga-sbornik-thumb.webp)

![Макс Фрай - Жалобная книга [litres]](/books/72699/maks-fraj-zhalobnaya-kniga-litres-thumb.webp)
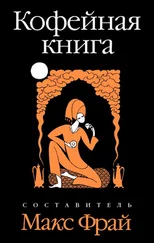
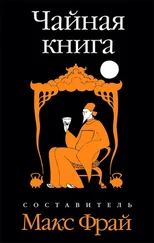


![Макс Фрай - Книга для таких, как я [litres]](/books/414086/maks-fraj-kniga-dlya-takih-kak-ya-litres-thumb.webp)