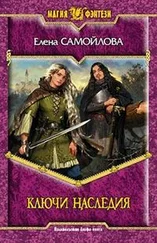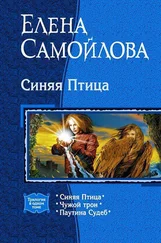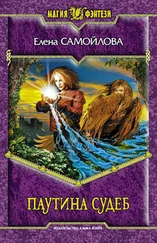Я перевела взгляд со свечи на тусклый прямоугольник окна прямо под потолком. Через толстые прутья виден только крохотный кусочек светлеющего неба с одной-единственной тающей льдинкой-звездой. Что-то возится неподалеку, шумно принюхивается, с противным скрипом точит когти о каменную стену — но не приближается к окошку, держась на почтительном расстоянии. Скоро рассветет, и ромалийский табор двинется прочь от Загряды, так и не дождавшись свою лирху. У северного морского берега их ждет оседлая жизнь, не простая и не сложная — обычная, как у многих других. Будет там понемногу и горя, и радостей, а уж удачи кочевому народу с рождения отсыпано чуточку больше, чем остальным людям. Справятся. Привыкнут.
И навсегда позабудут о приемыше, совсем недолго побывшем таборной лирхой…
Загромыхал засов, и дверь распахнулась, являя змеелова со стулом в одной руке и тростью с железным набалдашником — в другой. Викториан что-то негромко сказал стражнику, тот кивнул и плотно закрыл дверь за дудочником. Погремел засовом, а потом я услышала удаляющиеся в конец коридора шаги.
Вот и палач пожаловал…
Разноглазый глубоко вздохнул и подошел ближе, разглядывая меня едва ли не пристальней, чем те, кто искал драгоценности и оружие под ромалийскими штанами. Поставил стул в середине комнаты и уселся на него верхом, опираясь на рассохшуюся, исцарапанную спинку. Молчание затягивалось, изредка нарушаясь лишь потрескиванием неровного пламени свечи, которое то опадало почти полностью, погружая мрачную комнату в сумерки, то разгоралось, превращая спокойное лицо дудочника в страшноватую маску из мешанины света и тени.
— Как тебе нравится здесь? — От прежнего покровительственно-снисходительного тона не осталось и следа. Голос дудочника звучал хрипло, чуть сдавленно, будто бы он пытался перебороть отвращение, тугим кольцом сдавившее горло. — Извини, но ворам в этом захолустье лучших условий не предлагают.
Я ничего не ответила. Опустила взгляд на туго стянутые железной полосой руки и попыталась сесть поудобнее, подтянув колени, едва прикрытые сорочкой, к груди. Цепь негромко зазвенела, стальной змеей скользнула по каменному полу.
Дудочник медленно встал, неловко покачнувшись и на мгновение сморщившись, будто от боли. Подошел ближе и довольно неловко опустился на корточки рядом со мной. Осторожно, будто бы оглаживая чешую ядовитой змеи, провел теплой, жесткой ладонью по моей щеке. Склонил голову набок, будто бы прислушиваясь к своим ощущениям, и медленно, неторопливо убрал руку.
— Я бы хотел, чтобы ты сняла свою маску. Хотя бы частично. Какая ты на самом деле, Мия?
— Для людей все шассы на одно лицо. — Я произносила слова медленно, негромко. Словно боялась, что меня кто-то может услышать. — Говорят, если видел одного змеелюда, значит, видел их всех.
— Я видел множество. Все змеелюды разные. Так же, как и люди, — сказал он, кладя ладонь мне на плечо. — И сейчас я общаюсь с тобой, Мия. Интересно, я неприятен тебе?
— Ты и людей убиваешь так же легко и без разбору, как шасс? — Я удивленно приподняла брови, чувствуя, как меня начинает бить дрожь — не то от холода, не то от напряжения, плавно перетекающего в страх. — И ты задаешь очень странные вопросы. Не понимаю, как может быть приятен тот, кто разрушил до основания дом и убил семью.
— О, здесь существует множество вариантов. Искренний враг может оказаться ближе, чем самый преданный друг, поскольку ты можешь быть откровенным с ним до конца — и не бояться потерять. — Змеелов горько и как-то обреченно усмехнулся и поднялся на ноги, взирая на меня с высоты своего немаленького роста. — Я расскажу тебе одну историю. Банальную, как оказалось впоследствии. Так вот. Жил на свете мальчик, и у него было все. Ну или почти все, потому как род его хоть и был приближен к княжескому двору, богатством не отличался. Отец пророчил сыну воинскую службу, и потому лет с пяти мальчика учили обращению с кинжалом и мечом, езде верхом и многим другим вещам, которые были призваны воспитать в ребенке славного воина. О том, что мальчику гораздо больше нравилось проводить время за книгами, нежели в седле, отец, разумеется, и слушать не желал, а попытки увильнуть от тренировок карались розгами и оставлением без ужина. К счастью, у ребенка была отдушина — мать. Нежная и ласковая, она была очень добра, особенно по сравнению с отцом. Там, где отец добивался послушания угрозами и наказаниями, мать действовала увещеваниями и безграничным терпением, добиваясь ничуть не худших результатов. Постепенно мать стала для мальчика тем идеалом, к которому хотелось стремиться, стала богом, вокруг которого строился весь его детский, искренний и незапятнанный мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу