Якоб не понял, кого она имела в виду, Вилли или покойного сына. В любом случае у него не было ответа.
— Где он? — спросила она снова, и ее сухие глаза сверкали от ярости. Якобу больно было видеть ее такой: мрачной и румяной, сурово-прекрасной и полной жизни.
Он поразился прозвучавшей в ее голосе тоске, еще более глубокой, чем его собственная. Он никогда не забывал отчаяние собственной матери, когда скончался его отец. И твердо знал, что никогда не позволит себе жениться и стать настолько близким еще одной смертной душе. Его ужасала не столько смерть, сколько необходимость пережить такую потерю.
— Наша мать, — начал он, пытаясь ее утешить, — наша мать тоже потеряла первого ребенка. А затем родила шестерых, и все они выжили…
Дортхен все это уже знала. Может, сам Якоб ей и сказал, он этого не помнил. Якоб отвел взгляд от ее безумных голодных глаз и посмотрел на цветок гелиотропа, который Дортхен подарила ему два года назад, перед своей помолвкой. Его шиповатые пурпурные цветки казались невыносимо жесткими и холодными в свете единственной свечи. Должно быть, Дортхен тоже сочла их невыносимыми, потому что, оторвавшись от двери, она вдруг с силой смахнула горшок с цветком на плиточный пол. Якоб был почти готов к тому, что она его ударит, и попытался схватить ее за руку. Но она вернулась к двери и вновь к ней прислонилась, а потом быстро заморгала и прикусила губу, но так и не заплакала. Якоб молился, чтобы она наконец разрыдалась. Ей нужно облегчить свою боль. Она бы прошла через это и провела его за собой, раньше, чем пробьют часы. И они бы двинулись дальше, туда, где оба могли обрести покой.
— Якоб, Якоб… — бормотала она, упершись взглядом в кучку земли на полу и разметанные от удара листья и черепки. — Почему он ушел? О, Якоб, мой Якоб… — Не поднимая глаз, она протянула руки, и он наконец подошел и обнял ее.
— Якоб, — снова прошептала она, когда ее руки сомкнулись у него на спине. Плачь, молча прикрикнул он, ну, плачь же! Но вместо того чтоб зарыдать у него на груди, она одеревенело прижималась к нему, и ее била дрожь. Он чувствовал ее горячее дыхание на шее, горле, щеках. Он замер, крепко ее обнимая. Она пахла как-то иначе. Каким-то летним ароматом. Может, яблок? Я люблю тебя — это все, что мог он ей сказать в ту минуту — и тут же в памяти всплыла строчка из «Fundvogel» («Птенец»), которая всегда заставляла вспомнить ее улыбающееся лицо: «Ни сейчас, ни когда-либо я тебя не оставлю».
Он молча повернул голову, и его щека коснулась ее щеки. Теперь он видел все свои книги, но не мог найти в них ни единого слова, которое было бы уместно для такой минуты.
Когда оба откинули назад головы и потерлись носами, губы их встретились…
День за днем черты Куммеля становились все более смутными в памяти Августы. Не исключено, что это именно он переходил улицу возле Бранденбургских ворот. К тому же мать считала, что еще дважды видела его раньше.
После обеда в пятницу Августа вышла из дома, но на могилу Вильгельма в Шёнеберг, как сказала матери, не пошла. Вместо этого она двинулась на восток от ворот, через Монбижу и дальше, в бедняцкий район Шойненфиртель. Гейне как-то сказал, что Берлин — не город, а место, где люди собираются вместе. Если им это удается, подумала Августа.
Новая синагога на Орианиенбургерштрассе казалась стоящей не на своем месте, ведь здесь бродили толпы проституток, студентов и ломбардов. Тут и там Августа замечала небритых отцов семейств, открывавших окна, чтобы покурить, поскольку комнаты, где жили по несколько семей в каждой, были переполнены, и люди и без дыма задыхались — от тесноты. Эти лачуги ее просто поражали, она с трудом могла поверить в то, что там живут люди, с трудом верила, что в таких жилищах вообще можно жить.
В Гарце и Гессене Августа ужасно скучала по городу. Для нее он был надежным приютом, куда более реальным, чем какой-нибудь сказочный мир. Но теперь — даже не брать в расчет эти жалкие лачуги — город представлялся таким уязвимым, временным прибежищем после огромных лесных пространств, что дышали вечностью.
Она обратила внимание на нескольких евреев с бородками и в черных шляпах. Но ни один из них не походил на Куммеля. И почему они должны быть на него похожи? Если бы он сам не сказал, она никогда бы не подумала, что он «израильтянин», как это принято называть в ее кругу. Гримм утверждал, что догадывался об этом, хотя и не вменял ему в виду его обман.
— Я только заметил ему, что некоторые детали в его истории выглядят довольно странно, — сетовал он на пути домой из Касселя. — Признаюсь, я догадался, что он не христианин, но нынче это ничего не значит.
Читать дальше
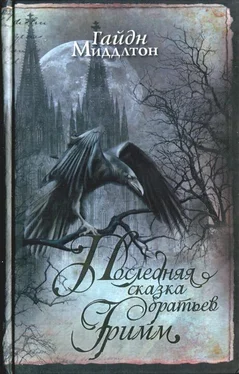



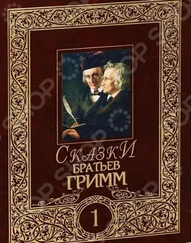


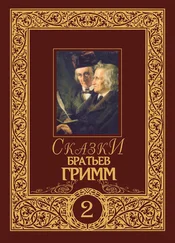
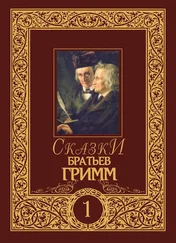

![Якоб Гримм - Сказки братьев Гримм [Классический перевод и классические иллюстрации]](/books/392570/yakob-grimm-skazki-bratev-grimm-klassicheskij-pere-thumb.webp)

