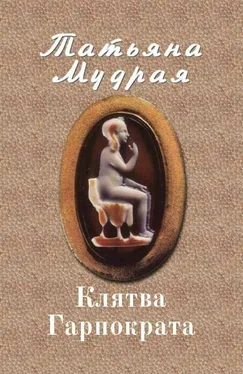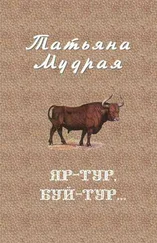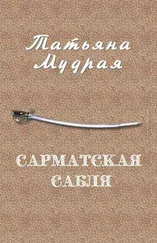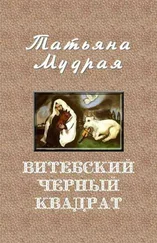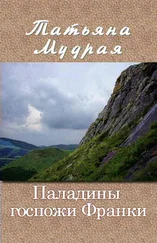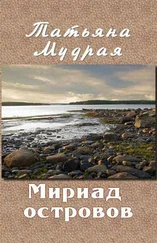Однажды мальчики видят там, за рекой, нечто удивительное — будто облетел пух со всех тополей сразу. Хотя они твердо знают: уж чего-чего, а никаких тополей там не водится. Не сговариваясь, оба швыряют свои удочки на мост и переходят через него — как есть босые, в одних штанах, подвернутых до колен, и рубашонках.
И вот они стоят, полуодетые, на фоне обильного и какого-то странного снега. Причудливо изогнутые ветви, на их фоне развалины величественных зданий, что столпились вокруг, будто цитаты из старинных гравюр. Сады камня, останки былой славы.
У занесенной снегом тропы оба замечают небольшой крест над домиком под двускатной крышей. Капличка. Вместо иконы — сидячая статуэтка ребенка с локоном, что спускается вниз с головки, и с пальцем во рту.
— Это кто, младенец Христос? — отчего-то шепотом спрашивает Арман.
— Похоже, что нет, — так же тихо отвечает Элинар. — Я слыхал о нем — это Гарпократ, «Гор-па-херд», юный бог зимнего солнца. Древние греки решили, что это бог молчания.
— А теперь зима?
— Не знаю — снег какой-то удивительный. Теплый.
— Но этот божественный мальчишка будет молчать? — спрашивает Арман.
— Ты о чем?
— Он говорит со мной. Если мы сделаем то, что он от нас хочет… что мы сами хотим, он клянется, что земля снова вернется на круги своя. Родится заново, как он сам, — и только в этот день Всепобеждающего Солнца.
— Ты угадал… ты считаешь, что угадал его верно? Мы же двоюродные, от этого могут случиться плохие дети…
— Что ты такое говоришь, чудик!
Они тихонько навзрыд смеются — ибо оба, и Арм, и Эли, страх как боятся того, что им предписано, — боятся, хоть им уже по тринадцать лет и по вертдомским понятиям они уже взрослые. Хотя не такая уж в них близкая кровь: один скорее сид, другой почти человек. Под невидимую музыку бытия они снимают с себя всё, помимо плоти, и танцуют — занимаются любовью, каждый из них открывает для себя другого. Сапфиры и изумруды, бледное золото, черный агат… Любое сравнение с драгоценностями бледнеет. Смуглые, стройные, еще неразвитые тела, темные соски, узкие бедра и ляжки, тонкие руки для того, чтобы сдавить в объятиях, напряженная нежность… Руки отверзают, губы кладут печать. Разъятие и внедрение, сплетение судеб и свершение рока… Один закусывает губу от боли, другой — от напряжения. Оба — от счастья. Блаженное страдание, горькое разрешение, сладостный итог всего. И белый пепел, серебристый снег падает на изнеможенные тела, вместе с ними, любовно окутывает их, точно лепестки сакуры.
Бесшумно низвергаются водопады храмов.
Оба возлюбленных просыпаются на влажном зелёном лугу под ветвями, простертыми над ними пышным шатром их живого хризолита. Нет ничего в мире, кроме теплой почвы, деревьев с набухшими почками и грандиозного двубашенного собора из розовато-желтого камня, что рвется к сияющему лазурью небу всей своей окрылённой мощью.
— Гарпократ получил силу — и снова начинает время, и каждый виток его круговорота, каждый возврат к себе, каждое обновление должны быть оплачены. Мы дали земле семя, и пепел оборотился листом, прах стал матерью жизни. Но, говорит он, это лишь начало, — горячо шепчет Арман.
— Ты точно знаешь, что мы поступили как должно? — спрашивает Элинар.
— Разве в тебе самом не записано это лучшим из языков — языком тела? — отвечают ему. Кто — его друг, его внутренний голос, само их обоюдное молчание?
Двое мужчин, две матери юнцов, двое их погодков благоговейно наблюдают за ними в окно Вольного Дома. Собственно, прямо смотреть на таинство им «не достоит», да и не нужно. Лишь бы не грозила опасность птенцам Хельмутова гнезда.
— Совершено, — говорит Фрейри-Юлиана, молодой король Верта и мать Армана.
— Они, чего доброго, думают, что это им сон приснился, — хмыкает Фрейр, раскоронованный король, отец Элинара.
— Пускай думают: наяву они не были бы так смелы, — отвечает ему Юлиан, отец Армана и Фрейров возлюбленный.
— Почему это? Они же из рода сидов, как и мы с Юлианой, — Фрейя пожимает плечами.
— Ты с Фрейри, — поправляет ее брат. — И в них есть кровь Моргэйна, который не боялся любви с тем асасином из замка Ас-Сагр, как то бишь его… Однако это совсем еще дети — пускай думают, как им легче.
— Сны сидов равны бытию, — кивает король Фрейр соломенно-рыжей головой: апельсин или солнце. — Слияние сидов равно разрушению, восстание их плоти — сотворению нового. Такое нашим отрокам пока не вынести.
— Так это мальчики приблизили Рутен сюда, к нам? — спрашивает Бельгарда.
Читать дальше