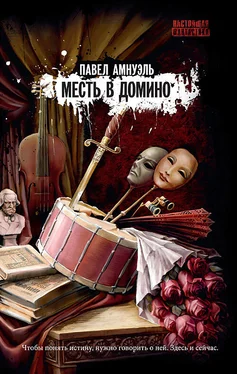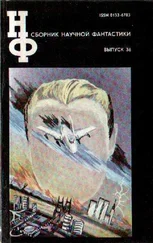Но остальные оказались ни хороши, ни плохи. Что-то происходило сегодня с главными персонажами: госпожа Жюльен-Дежан пела так, что ее, скорее всего, в задних рядах и, тем более, на галерке просто не слышали. Верди ждал возмущенного ропота, но наверху было тихо — то ли Амелия все-таки пела не так дурно, как ему показалось, то ли знатоки, собравшиеся под крышей театра, больше слушали музыку, чем исполнителей. Верди очень на это надеялся. Должны же были они услышать в музыке ту страсть, с какой Амелия любила Ричарда и готова была ради него на все… на разрыв с мужем… на то, что Ренато не позволит ей увидеться с сыном… может, даже на смерть она была бы готова, если бы… но смерть ждала не ее, смерть для своего любимого она сама вытащила из вазы, сама, своей рукой, там было несколько листков, откуда ей было знать, что на одном из них написано это ужасное слово?
В антрактах Верди не выходил из ложи. Более того, он запер дверь на ключ, не отвечал на стук, Яковаччи что-то говорил из коридора, но из-за шума в партере слышно было плохо, и Верди не стал отвечать. Он держал Джузеппину за руку, она сидела прямая, внешне спокойная, обводила взглядом ложи напротив, улыбалась, но Верди понимал: она волнуется.
Сомма тоже молчал. Он начал было говорить что-то, когда опустился занавес после первого акта, но Верди покачал головой, он не был расположен сейчас к разговорам. После спектакля, если все пройдет хорошо, он, конечно, скажет синьору Антонио, что никогда еще стихи так хорошо не ложились на музыку, в этой опере получилось то, чего он не мог добиться от бедного Пьяве, а до того — от франтоватого, безумно талантливого Солера, не говоря уж у трудолюбивом, но не очень способном Каммарано, сотрудничество с которым принесло Верди немало неприятных минут, но вспоминать об этом было неправильно, нехорошо, Каммарано даже до премьеры написанного им «Трубадура» не дожил, бедняга, пусть земля ему будет пухом…
Когда начался последний акт, Верди уже убедился в том, что Сомма был прав: что-то происходило между персонажами, что-то свое, личное, не связанное со сценическим действием. Ричард так страстно обращался к Амелии со словами любви, что невозможно было поверить в его чувство долга и в то, что этот человек окажется способен отослать своего секретаря и его жену в Европу для того, чтобы избежать соблазна. Скорее он отправит на каторгу Ренато, оставив Амелию в Бостоне! В Ричарде, которого играл Фраскини, было все от Герцога Мантуанского и ровно ничего — от американского губернатора. А Ренато… Голос у Джиральдони не звучал. Простуженным он тоже не был, болезнь можно было простить, понять, со всяким может случиться. Джиральдони не был простужен, он просто не думал о том, какие звуки извлекал из своего горла. Он вообще ни о чем, похоже, не думал — выпевал ноты, и не более того. Ни разу, впрочем, не сфальшивил. Зато с какой неожиданно прорвавшейся стратью Джиральдони воскликнул «смерть!», раскрыв листок бумаги, который Амелия достала из цветочной вазы. Жребий был брошен, выбор был сделан, и что-то в этот момент почудилось Верди, что-то представилось, он покосился на Сомма, хотел сказать, что… Нет, не надо, слова несут порой ненужную нагрузку, тем более сейчас, когда зал наполнен электричеством, будто лейденская банка, которую как-то демонстрировал в своем салоне синьор Маффеи.
В антракте перед последним актом Сомма наклонился к маэстро и сказал так громко, что услышал его не только Верди, Джузеппина услышала тоже и удивленно посмотрела на адвоката. Возможно, и в соседней ложе слова эти были слышны, прозвучали они, как пророчество Захарии: «Если все сегодня останутся живы, я поставлю свечку в церкви святой Катерины».
Верди понял, что Сомма имел в виду не оперных персонажей, одному из которых — Ричарду, — конечно, не суждено дожить до конца бала. Сомма говорил о ком-то из этих трех, о том клубке страсти, который не был распутан, о жизни, вмешавшейся в только похожую на жизнь оперную реальность.
Когда начался последний акт, Сомма поставил свой стул так, чтобы хорошо видеть все, происходившее на сцене. Он даже немного загородил Верди выход из правой кулисы, но композитор промолчал, он слушал, как Фраскини пел романс, отмечал недостатки, думал о том, что после такого исполнения зал непременно разразится недовольными криками, так и произошло, но зато несколько минут спустя публика неожиданно устроила овацию не ожидавшей бурного приема синьоре Гримальди, когда она спела красивую и действительно рассчитанную на аплодисменты песенку Оскара.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу