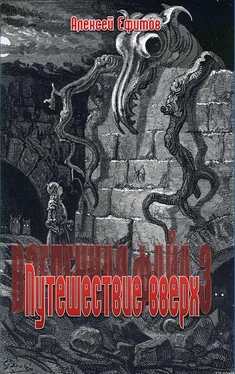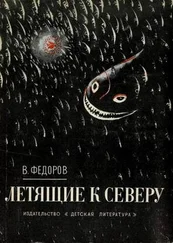Какой кислород? — всплыла в мозгу неожиданно спокойная мысль. — Это же сон! Да, сон, но если я через несколько секунд не смогу вздохнуть, то умру. Думай, Анми! Твои руки и ноги не смогут одолеть эту тварь, они ей не страшны, потому что она ненастоящая. А вот твоя ненависть, твоя ярость, твоя жажда жить — да.
Он собрал все свои мысли в единый порыв, и ударил им тварь, как лучом, — словно крикнул ей: «Ты не существуешь! Ты мой сон, мой кошмар! Исчезни!»
Раздался омерзительный звук рвущейся плоти. А через миг в его грудь хлынул воздух.
* * *
Через минуту он отдышался и смог сесть. Едва он зашевелился, Философ пошел к нему. Анмай с трудом поднялся на ноги, не обращая на него внимания. Серьезных ран, похоже, не было, зато синяков и ссадин, — не перечесть. Противно ныли вывернутые суставы и ребра, а осторожно ощупывая спину, он то и дело натыкался на лоскутки содранной кожи. Боль была дикая, но ощущалась как-то смутно, хотя по нему ручейками стекала кровь.
Он поднес к лицу окровавленную ладонь, с интересом понюхал, потом лизнул, — да, настоящая кровь, не та антирадиационная жидкость, что текла в его жилах последние семь лет, — семь бесконечных лет. Ему вернули его собственное тело, — перед тем, как он лишится тела навсегда.
Анмай взглянул на себя. Да, всё верно. И большей шрам на ребрах слева, оставленный осколком ракеты, и маленький на бедре, оставленный срикошетившей пулей Философа, — перед тем стоял тот же черноволосый юноша, что жил когда-то на плато Хаос.
— Идиотская ситуация, верно? — обратился он к безмолвному Философу. — Если это действительно окончательный суд, то он рождается в мыслях того, кого судят. А я, по врожденной дикости, не смог придумать ничего, кроме сюрреалистического мордобоя. И вот результат, — Анмай стер ползущую по бедру темную струйку, — вместо духовного просветления у меня ободрана половина шкуры. Впрочем, наплевать. Я всегда стремился попасть сюда, на эту равнину, потому что знал, — никто другой этого сделать не сможет. И не захочет. Да, я погубил многих, — но какая разница, если сейчас не осталось вообще никого, только я? А если я не смогу пройти, то всё, — вообще ВСЁ, — окажется бессмысленным. Что же мне делать? — последний вопрос прозвучал по-мальчишески жалобно.
Он закусил губу, — чтобы не зашипеть от боли, — и осторожно присел на пятки. Голова вроде бы не кружилась, и ноги не подкашивались, но, похоже, ему досталось сильнее, чем он думал, — а кровь всё ещё продолжала течь…
Он машинально приподнял кусок базальта, подвернувшийся под босую ногу, — мягко-коричневый, цвета его кожи, камень стал ярко-алым, но алое на глазах тускнело, превращаясь в невзрачную бурую кору. Дикое возбуждение схватки ещё не оставило его, он чувствовал, как в израненом теле бешено бурлит кровь и ликующая, победившая жизнь, — его бросило в слабость и жар, но под кожей словно жужжал миллион крохотных моторчиков, работающих на полных оборотах, и боль стала казаться не такой уж и сильной. Даже приятной. Его тело, созданное именно для таких схваток, упивалось своей победой, не зная ещё, что она оказалась последней.
* * *
Анмай поднял глаза. Философ бросил автомат, — металл резко зазвенел о камни, — и подошел к нему. Он сел рядом и протянул руку, но ладонь застыла, не коснувшись плеча, — ей пришлось бы прикоснуться к открытой ране. Секундой позже Анмай почувствовал её на своих волосах.
— Мальчишка, — сказал Философ, — несчастный, заблудившийся мальчишка, который так и не стал взрослым.
Анмай уткнулся в его плечо, в неопределенный, но домашний запах. Этого он совсем не ожидал, и ему захотелось заплакать, но он не смог, — не потому, что стеснялся, а потому, что у него больше не осталось слез.
— Отец… — начал он, и замолчал.
У него не было отца. У него была любимая, но она была всего лишь женщиной. Всего лишь. У него были друзья, — все младше его. А ему так нужен был старший, кто-то, кто смог бы объяснить, научить его… и не было бы этой мертвой равнины, и сейчас он бы сам уже стал отцом широкоглазого дерзкого юноши лет пятнадцати… и давным-давно бы умер, превратившись в ничто.
Анмай отпустил Философа и осел, уткнувшись лицом в колени. Самое мучительное, — одиночество, а его ожидает одиночество вечное, он чувствовал это, и сжал зубы, пытаясь подавить бессмысленный, бессловесный стон, рвущийся из груди. Лишь сейчас ему дали понять, что он не был целым, завершенным, взрослым, что ему не хватало такой малости, доступной почти всем, — любви, обыкновенной родительской любви. И лишь сейчас он понял, что Философ не был его врагом, — сколько раз тот пытался остановить его, образумить? Но побуждение, пришедшее из-за границ мирозданий, всё же оказалось сильнее…
Читать дальше