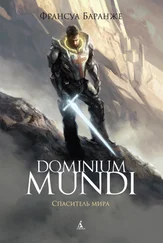Впрочем, сотрудников полевых лагерей, вынужденных мотаться туда-сюда по требованию техники безопасности — смена не более четырнадцати дней — понять можно легко. Окон в кунге нет, правда, есть камеры внешнего обзора и экран… который часами показывает медленно сдвигающиеся назад стволы деревьев. Встать и походить толком негде, выходить наружу без разрешения командира транспортёра тоже нельзя — остается тупить в ПКУ или болтать…
Почему основанный как наблюдательный пост Л-14, основанный лет этак сорок назад (что я только не запомнил после полутора суток выслушивания баек!), все еще носил название «полевого лагеря» я понял, едва нам позволили выбраться на укатанный гусеницами снег импровизированной площади между… н-да, контейнерами и бытовками. Тоже сделанными в форм-факторе контейнеров и когда-то сюда притащенные все теми же вездеходами.
Жилые помещения, лаборатории, административные и хозяйственные постройки — все это, словно из кубиков, было собрано из жилых и обычных контейнеров. Одно временное (ха-ха!) здание умудрились сделать аж трехэтажным! Причем было заметно, что лагерь рос, что называется, «естественным образом», без изначально разработанного плана — и потому никаких прямых улиц тут не наблюдалось. Зато над головой во все стороны тянулся хаос кабелей и проводов, опирающийся не только на покосившиеся деревянные столбы, но и магистрали трубопроводов разной толщины.
Даже мне сразу стало понятно, что любая попытка убрать слово «полевой» из описания этого места немедленно спровоцирует реакцию греющего в Лобачевском высокие кресла начальства. А именно, полетит приказ «привести все в порядок» и «прекратить бардак!» Для научного поселения, естественно росшего сорок лет и теперь существующего по принципу «ничего не трогай, пусть работает» подобная перестройка обещала надолго поставить крест не только на исследовательской, но и на любой другой деятельности. И не только в силу потому, что «легче снести и построить заново, чем сделать нормально из этого».
Л-14 «затыкал» собою самый… наверное, правильнее будет сказать — неприятный портал в кластере. Возникший там, где ранее располагалось известное только аборигенам «плохое место», пространственный пробой убил вокруг себя все живое на расстоянии трех сотен метров. Подходить ближе можно было и даже проводить рядом некоторое время — но не больше нескольких часов, иначе проблемы в организме исследователя начинали нарастать как снежный ком. Пока не прибивали человека нафиг.
И да, к порталу нужно было именно подходить. Потому что техника начинала отказывать уже на значительном отдалении. Сначала сложная и незащищенная, потом военная, лучше всего изолированная от внешней среды — а потом и самая простая. Например, запросто могло не выстрелить ружье — потому пилот аэросаней по совместительству оказался еще и лучником. А Зэте (формально мне, на самом деле) все же перепала вполне официально рогатина — напороться в мёртвой зоне на медведя редко кому удавалось, но прецеденты за сорок лет зафиксированы были.
Сам Л-14 располагался от нужной нам точки в 30 километрах — потому и понадобились сани. Летом же научные сотрудники вынуждены были пересаживаться на влекомые лошадьми телеги! Так что нам в какой-то мере повезло — снег в этой части Сибири уже полтора месяца как лёг. Или не повезло — потому что последний километр все-таки требовалось пройти пешком. Если наст нас не удержит — грудью и лопатой пробивая снежную целину, потому что я не очень себе мог представить, как на охотничьих лыжах двигаться с синтой в обнимку. Ведь к порталу, как-то нет-нет да и вызывающему сбои в электронике и в самом лагере, отчего в нем и использовались без модернизации выстраданные схемы, нам самим нужно было подойти вплотную.
* * *
Зэта начала ко мне жаться еще на полпути, сообщив о лавинообразном нарастании ошибок в периферии и сбоях в работе центрального процессора. Отказоустойчивость позволила бы синте некоторое время так существовать, давя проблемы за счет запаса быстродействия и алгоритмов исправления ошибок, но предпочла спрятаться «в домик», в смысле, сесть ко мне вплотную, обняв за плечи. Судя по пойманному краем глаза движению — Михаилу тоже резко захотелось отказаться под защитой, но принципы все-таки пересилили. Водила саней и так пялился на не желающего навсегда замирать андроида как на диво-дивное. Даже спросил, когда транспорт остановился у почерневшей немаленькой медной табличке, прибитой к толстой ёлке: «с мотором — стой!»:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
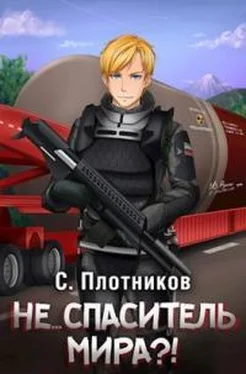


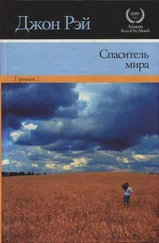
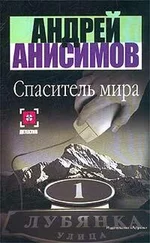
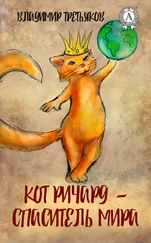
![Сергей Плотников - Паутина Света. Том 1 [СИ]](/books/423448/sergej-plotnikov-pautina-sveta-tom-1-si-thumb.webp)
![Франсуа Баранже - Спаситель мира [litres]](/books/433146/fransua-baranzhe-spasitel-mira-litres-thumb.webp)