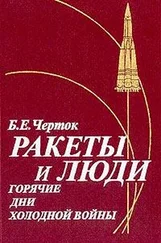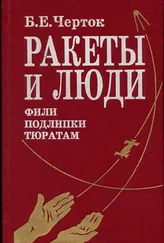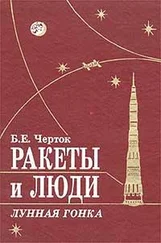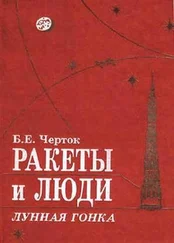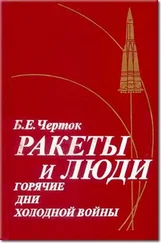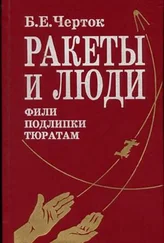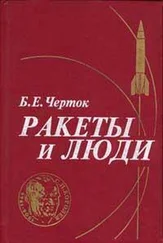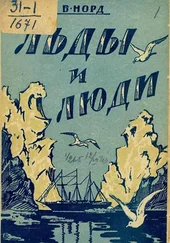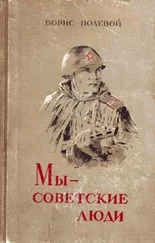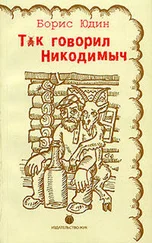Разброс величины импульса последействия по опыту Р-5 и стендовым испытаниям столь велик, что в десятки раз перекрывает разброс ошибок за счет системы управления. Только по этой причине ошибки по дальности могут составить свыше полусотни километров.
По этому поводу было много предложений, большинство из которых сводились к доработкам двигательной установки, которые Глушко отвергал.
Решение пришло в виде предложения, убивавшего сразу двух зайцев. Вместо газоструйных рулей для управления использовать специальные управляющие двигатели. Эти же двигатели должны служить последней ступенью малой, «нониусной» тяги. После выключения основного двигателя второй ступени точное измерение скорости производится на режиме работы только рулевых двигателей. По достижении заданной скорости они выключаются практически без импульса последействия. Глушко отказался делать рулевые двигатели. Ему хватало забот с основными двигателями, сроки доводки которых были под угрозой срыва. Для разработки рулевых двигателей по инициативе Мишина были приглашены на работу в ОКБ-1 Михаил Мельников, Иван Райков и Борис Соколов, которые застряли в НИИ-1 у Келдыша после того, как оттуда ушел Исаев со своими двигателистами.
Двигательное производство на заводе уже имелось, но только для исаевских ЖРД на высококипящих компонентах для зенитных ракет и Р-11. Надо было организовать заново производство кислородных двигателей малой тяги и создать комплекс для всех видов испытаний, в том числе огневых. Мы с Пилюгиным еще в Бляйхероде мечтали о системе без газоструйных рулей.
Василий Мишин оказался энтузиастом этой идеи и пошел дальше. Если можно отказаться от газоструйных рулей на центральном блоке, то зачем их сохранять на «боковушках» первой ступени? Было принято революционное решение – на ракете вообще никаких газоструйных графитовых рулей. Управление на всем активном участке осуществляется только управляющими двигателями, которые работают на тех же компонентах, что и основные, и получают питание от тех же турбонасосных агрегатов. Глушко создал для первой и второй ступеней по существу один двигатель с четырьмя камерами сгорания. Теперь к этому двигателю на второй ступени добавили еще четыре малых, рулевых, а на первой – по две малых камеры на каждый двигатель боковых блоков. Эскизный проект предусматривал на каждом боковом блоке для управления использование трех газоструйных и одного воздушного руля. Четыре управляющих двигателя вводились только на центральном блоке. Решение о замене газоструйных и воздушных рулей на боковых блоках управляющими двигателями было принято уже после защиты эскизного проекта.
Вместо одной камеры сгорания, с которой все мы привыкли иметь дело на любой ракете, появились сразу тридцать две! Этому решению почти 40 лет. Но оно не только не стареет, а сейчас переживает уже третью молодость. Тридцатью двумя камерами надо научиться управлять – готовить запуск турбонасосных агрегатов, открывать в требуемой последовательности десятки клапанов, обеспечивать одновременное зажигание и последующий выход на все режимы.
Резко возросла наша ответственность за координацию работ в треугольнике ОКБ-1 – ОКБ-456 – НИИ-885. Общую пневмогидросхему разрабатывало ОКБ-1, общую электрическую схему – НИИ-885, а схема и циклограмма работы двигателей была за ОКБ-456.
Нелегко было Глушко согласиться с подключением к его двигательным установкам еще двенадцати качающихся камер! Но бескомпромиссная позиция Мишина плюс энтузиазм команды Мельникова, Райкова, Соколова показали пример нестандартного «выхода из безвыходного положения» и проложили дорогу для многих последующих схем управления ракетами и космическими аппаратами.
Мой коллектив совместно с рулевиками Калашниковым, Вильницким, Степаном должен был создать новые рулевые машины, обладающие большим запасом по динамическим параметрам и мощностью для преодоления трения в узлах подвода кислорода и керосина к качающимся двигателям. Все вместе: двигатели Глушко, рулевые камеры Мельникова, наши рулевые машины – надо было после раздельной разработки отработать на совместном огне! Сначала на стендах ОКБ-456 в Химках, а потом в Загорске – филиале № 2 НИИ-88.
Проблема номер два.Сколько бы ни старались двигателисты выпускать свои двигатели строжайшим образом одинаковыми, они будут иметь технологические разбросы по удельным и абсолютным значениям тяги, а следовательно и разбросы по расходам компонентов. Стало быть, за равное время в каждом из боковых блоков будет израсходовано разное количество кислорода и керосина. Когда подсчитали, то ужаснулись. Ко времени выключения первой ступени разброс остатков по массе достигал десятков тонн. Это угрожало несимметричными нагрузками на конструкцию, органы управления и прямыми потерями дальности. Получалось, что даже при самом жестком подборе двигателей по идентичности характеристик мы не используем десятки тонн драгоценных компонентов. До сих пор таких проблем у ракетчиков не было. Мы, управленцы, пришли на помощь двигателистам и заявили, что можем обеспечить синхронизацию расхода компонентов из всех боковых блоков при условии, что нам дадут право управлять общим расходом и соотношением расходов керосин-кислород на каждом двигателе. Такая система оказалась совершенно необходимой.
Читать дальше