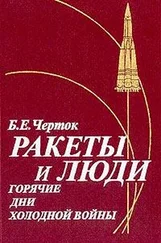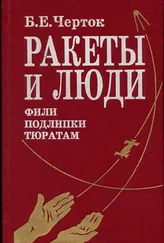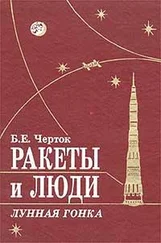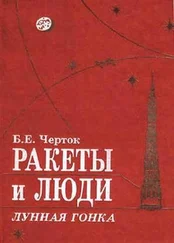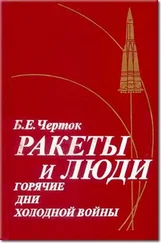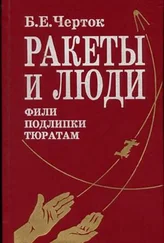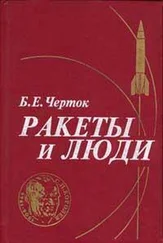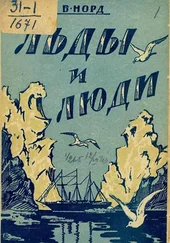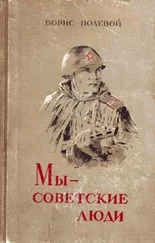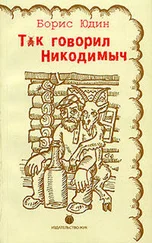У каждого артиллерийского орудия находился его главный конструктор, иногда вместе с директором завода и военными представителями. Все были готовы доложить наркому обороны не только тактические преимущества нового образца, но и готовность к массовому производству.
Две пусковые установки типа БМ-13 с 24 снарядами каждая скромно стояли в стороне от главных экспонатов. При них не было ни главного конструктора, ни уполномоченного представителя промышленности. Все хлопоты взяли на себя полковник Аборенков, инженеры и мастеровые НИИ-3, готовившие пусковые установки к смотру.
Демонстрация реактивного оружия по расписанию была последней. Эффект ураганного огня с воем летящих 48 снарядов произвел на маршалов и генералов потрясающее впечатление. В районе цели поднялись тучи пыли и бушевало пламя. Ничто живое, казалось, не должно выдержать такой огневой налет.
Тимошенко в резкой форме обратился к Кулику: «Почему о наличии такого оружия молчали и не докладывали?» Кулик оправдался тем, что оружие еще не доработано, не проводились войсковые испытания.
Жуков в своих мемуарах, пытаясь объяснить затяжку с принятием на вооружение многих новых образцов, вынужден был признать, что перед войной маршал Кулик не оценил возможностей ракетной артиллерии. Впрочем, аналогичный упрек можно было адресовать и новому командующему Военно-Воздушными Силами Рычагову, который не оценил перспективности штурмовиков Ил-2, и еще многим другим высоким военным руководителям, которые предпочитали в подобных случаях получать указания лично от Сталина.
По свидетельству Галковского, одного из участников испытаний, Жукова на смотре при этих стрельбах не было. Может быть, поэтому и в мемуарах он больше не возвращался к событиям, последовавшим за упомянутым разговором со Сталиным.
Тимошенко и Аборенков проявили после смотра необходимую настойчивость и оперативность. За сутки до нападения фашистской
Германии вышло постановление, подписанное Сталиным, о серийном производстве снарядов и пусковых установок.
Теперь вновь вернемся к событиям, непосредственным участником которых я являлся.
Впервые входя в главное здание НИИ-3, я не знал его истории и не обладал даром предвидения, чтобы оценить историческую роль широкой лестницы, ведущей к кабинетам руководителей института. Через 50 лет фасад здания и эту лестницу увидят миллионы телезрителей в историко-документальных фильмах. В этом здании в разное время работали люди, чьи имена только через десятки лет будут открыты для истории космонавтики.
Не зная прошлого и не предвидя будущее, я в марте 1941 года спокойно вошел в кабинет начальника института.
Костиков гостеприимно встал и вышел из-за директорского стола. На нем была военная форма с четырьмя шпалами в петлицах, что соответствовало чину инженер-полковника. Он, любезно улыбаясь, сказал, что от Болховитинова и его представителей у него никаких секретов не будет. По директорской команде заместитель Душкина инженер Штоколов увел меня к себе в лабораторию, а потом показал стенд огневых испытаний ЖРД.
Со слов Штоколова я понял, что двигателя, который можно поставить на самолет Березняка, пока еще нет. Идут экспериментальные работы, и я появился вовремя, чтобы мы вместе вырабатывали процедуры запуска, контроля и управления будущим двигателем в полете. При последующих посещениях НИИ-3 мы обсуждали уже конкретные задачи электрического зажигания, дистанционного контроля давления в камере сгорания, магистралях горючего и окислителя.
Я сразу отверг идею устройства сигнализации наличия пускового факела с помощью вакуумного фотоэлемента. Эта автоматика была достойна уважения как лабораторный эксперимент, но для боевого самолета кустарное, любительское устройство могло только скомпрометировать благородные идеи электронной автоматики.
Штоколов посвятил меня в тайну: ЖРД, в отличие от пороховых двигателей, имеет гораздо больше вероятностей взорваться. В случае, если в камере накапливается до начала горения избыток компонентов, они загораются с сильнейшим хлопком или взрываются, разрушая камеру и обливая азотной кислотой близко расположенные приборы. Хорошо бы придумать систему безопасности, защищающую от такого явления.
Посещая НИИ-3, я познакомился с главным специалистом по ЖРД Л.С. Душкиным, главным испытателем А.В. Палло и другими инженерами. Они очень спокойно относились к взрывоопасности ЖРД. Я считал себя уже опытным авиационным инженером, и мне показалось по меньшей мере странным такое их отношение к «ракетному мотору». Он оставался для них в буквальном смысле «вещью в себе». Каждое испытание, если двигатель вообще запускался, приносило столько неожиданностей, что прогнозировать поведение после очередной доработки казалось невозможно.
Читать дальше