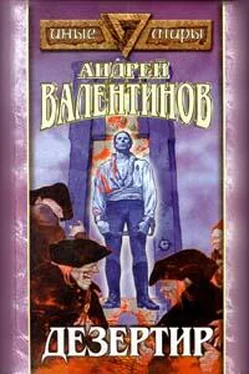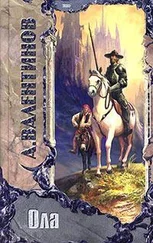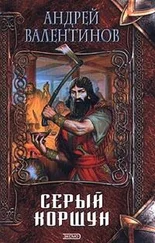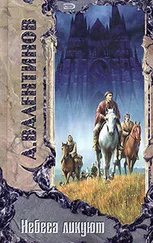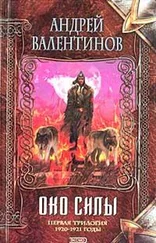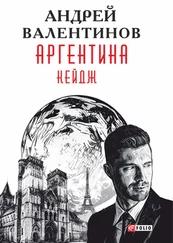— Ну я пошел за доктором, — донесся откуда-то издалека детский голос. — Только вы, гражданин Деревня, без меня часом не помрите!.. Эй, эй! Бросьте! Вы чего?!
Я смог открыть глаза. Смог встать. Хватило сил щелкнуть перепуганного мальчишку по стриженому затылку.
— Пойду. Скажешь Шарлю, чтобы нашел Пьера Леметра. Он академик, живет на улице д'Орсе…
Я оглядел расплывавшуюся в глазах комнату и аккуратно положил на стол бланки приказов.
— Это — тоже Леметру. Улица д'Орсе, не забудь…
— Стойте! Стойте! — Худые ручонки вцепились, не отпуская, и мне пришлось найти силы, чтобы разжать их и погладить мальчишку по голове. Хорошо бы, чтоб он выжил. Выжил — и никогда не брал в руки мушкета. Ни под белым знаменем, ни под красным…
Полутьма подъезда внезапно сменилась угольной чернотой. Ничего не видя, я брел вниз по ступеням, спускаясь все ниже, и с каждой минутой сердце билось спокойнее, холод отпускал, легче становилось на душе. Мой путь подходил к концу. Там, за дверью…
Там, за дверью, вместо вечернего сумрака, прорезаемого тусклым светом масляных фонарей, в лицо мне ударил свет — безжалостный дневной свет, сорвавший последние покровы, милосердно наброшенные кем-то на мою окровавленную память. Я увидел огромную площадь, окруженную старинными домами. Черная толпа обступает высокий эшафот…
Черная толпа обступает высокий эшафот. Брат стоит у самого края в белом солдатском мундире, на котором алеет знак Святого Сердца. Он — последний, все остальные — и Жан Пелисье, и малыш Ри Шенон, и старый рубака капитан Гронемаль — уже мертвы. Толпа ревет, громко бьют барабаны, а кто-то в первом ряду что есть силы размахивает проклятым трехцветным флагом. Звери ликуют, воют от восторга. Еще бы! Сейчас на глазах у взбешенных нелюдей погибнет Руаньяк — тот, кто четыре месяца не пускал убийц в Лион, кто осмелился бросить вызов трехцветной чуме, кто грозил санкюлотскому Парижу…
Брат не смотрит по сторонам. Его глаза устремлены ввысь, в безоблачное небо. Александр спокоен, бледные губы еле заметно шевелятся — он верит, что Тот, Чье Сердце пламенеет на его мундире, не оставит раба Своего в страшный час. Он спокоен и потому, что знает — я жив, меня нет на эшафоте, и вскоре вся Франция — и друзья, и враги — услышат, что маркиз Руаньяк жив, жива армия Святого Сердца, и борьба, наша борьба, продолжается. «Кто-то из нас должен выжить, Франсуа! Назло им! Назло этим убийцам!» Точно так же полгода назад на эшафоте погибли наши отец и мать — не покорившиеся, не пожелавшие ползать на брюхе перед убийцами. Я смотрю на брата, и глаза мои сухи. Уже десять веков Руаньяки служат Франции. Наш пращур погиб при Азенкуре, дед сложил голову под Росбахом. Прощай, Александр! Я отомщу! За тебя. За всех…
Косой нож — серый, в темных пятнах крови — падает вниз. Над площадью стоит рев, но я не слышу ничего, ничего не вижу — кроме эшафота и пятен крови на темной стали. Вот и все… Надо уходить, благо во внутреннем кармане камзола лежит страшный документ, который я только что забрал у предателя и негодяя Шалье. Шалье тоже мертв, как и его безумный кузен, как мой брат, как Жан Пелисье, как тысячи и тысячи других. Но сотни тысяч, те, что еще не погибли, — разве их минует эта участь? Ведь я жив, сейчас я покину обреченный город, чтобы мстить — убивать, убивать, убивать, пока не будет брошен в канаву труп последнего «синего». И только тогда…
И только тогда… И вдруг я понимаю — конца не будет. Вырастут дети — те, кто не умрет с голоду, кого не убьем мы и не убьют они. Дети вырастут — и все начнется сначала. Кровавая волна поднимется до самых Небес, и те, последние, кому доведется погибнуть, проклянут нас, начавших это. И в этот миг, страшный миг прозрения, я понимаю, что должен уйти…
Еще не стихли вопли, толпа еще гудит, с трудом приходя в себя от радости, еще мечется над площадью трехцветный штандарт, когда я срываю треуголку с ненавистной кокардой и кричу — громко, чтобы слышали все — и живые, и мертвые: «Да здравствует Король! Да здравствует Король!..» Это — пароль, пропуск в Никуда, на черную плешь равнины Бротто, где Смерть откроет мне свое имя…
…Небо было серым и плоским. Оно находилось совсем рядом — только протяни руку. Но я знал — это мне не по силам. Я не мог двинуться, не мог даже закрыть глаза, чтобы очутиться в спасительной темноте. Все потеряло смысл перед беспощадной истиной, близкой и безликой, как эта неровная, шершавая небесная твердь.
Я умер.
Я умер давно и лежал на холодной осенней земле, пытаясь понять, чем согрешил перед Тем, Кто закрыл мне путь к покою — к тому, что заслужили мы все, и правые, и виноватые. Что не сделал я, Господи? Я выполнил все — и живой, и мертвый. И теперь мне нечего делать на этой проклятой земле! Остальное сделают те, кто остался. Шарль Вильбоа вырвет Юлию из Консьержери, Жак Ножан не даст пропасть «соплякам», и, может, Титан с изуродованным лицом все-таки спасет нашу несчастную страну. Даст бог, «синие», еще не потерявшие разум, сумеют найти общий язык с Поммеле и Леметром, чтобы не пустить в сердце Франции чужие войска и безумных мстителей из Кобленца. Но это они сделают без меня. Что я могу, мертвый?! Что же Тебе еще надо от меня, Господи?..
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу