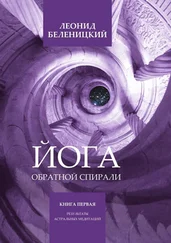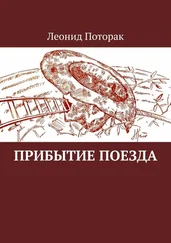В гостиницу, где остановился Пушкин, Чечен пришел на рассвете, узнал Никиту, потребовал разбудить барина и, когда барин со скрипом оделся, вбежал в комнату.
– Явился! – Пушкин радостно пожал Чечену широкую ладонь.
Крепкий, черноволосый, с ухоженными усами, Чечен был на голову выше Александра. Они обнялись, и маленький Пушкин полностью исчез в объятиях Багратиона.
Пушкин, однако, помнил Чечена и более цветущим.
– Отощал, – протянул Александр, критически осматривая коллегу с ног до головы. – Тебя тут разве не кормят? Где суровый взгляд горца? Где стать?
– Пожертвовал во благо отчизны, – пожаловался Чечен. – Я ведь теперь Николай Пангалос. Грек по батюшке. Личность печальная, полумёртвая от несчастной любви к Dark Lady 8 8 Тёмная леди (англ.) Намёк на неизвестную Тёмную леди – адресата многих сонетов Шекспира
. Мои грузинские деды и бабки, думаю, счастливы безмерно…
Чёртов Нессельроде, подумал Пушкин. Надо же было придумать именно такую легенду.
Чечен задушил музу – в кабаке – купание в Днепре и смертельная опасность
За что, за что ты отравила
Неисцелимо жизнь мою?
А.А.Дельвиг
Гуровский, по словам Чечена, погиб в конце прошлого года, бедняга. Как только его смогли разгадать, он ведь был гением, этот Гуровский, разведчик от Бога, – так, по крайней мере, рассказывал Чечен.
– А что сталось-то с Гуровским? Его, говоришь, утопили?
– Да, – сокрушенно кивал Чечен, – связали и бросили с баржи. Может, зарезали сначала, на барже нашли кровь…
Пушкин поднял голову:
– Так ты не видел его тела.
Чечен покачал головой.
– А-а… – Пушкин снова впал в рассеянность, готовую смениться раздражением.
Он как раз готовился собрать из вертящихся на уме строчек стихи, обложился бумагой и изгрызенными перьями, какие, по своему обыкновению, не выбрасывал, а скрипел ими до последнего. Но Чечен отказался от послеобеденного отдыха и пришел сидеть. Вот и сидел Багратион Кехиани (он же Николай Пангалос), скрестив ноги, покуривая трубочку и деловито рассказывая новости разной степени важности.
Менее всего Пушкин был сейчас расположен думать о покойнике Гуровском и иже с ним; но и отослать подальше Чечена было жаль – человек искренне рад встрече и хочет посодействовать.
Перо хрипло выписывало на бумаге «Во имя…», предвещая (или не предвещая) стихотворение. В такие моменты Пушкин делался отстранённым, огрызался на попытки завладеть его вниманием (каковых, по счастью, Чечен не предпринимал), царапал возникающие слова, глядя на них широко распахнутыми тёмно-синими глазами. Слова клеились в окончание стихотворения, и Пушкин шевелил губами, придумывая начало, потом вдруг набрасывал быстрый ряд ничего не значащих образов – чьё-то брезгливое лицо, размашистый вензель, окна…
– Мой помощник тут – поручик Благовещенский, знаешь его?
– Нет, только с твоих слов.
– Это он первым прибыл на место той драки, когда Зюден ускользнул. Поручик рвётся сейчас же участвовать, среди погибших были его сослуживцы.
– М-м… – Пушкин сморгнул вдохновение. – А Благовещенский au courant о нынешнем нахождении Зюдена?
– Увы, нет. Или Зюден выехал в Тамань, или выедет в ближайшее время, вот самое большее, что мы теперь знаем.
– Что ему искать в Тамани?
– Хочет встретиться с новым информатором, может быть, – пояснил Чечен. – Не это главное. Благовещенский расскажет подробности о турецких шпионах, подручных Зюдена, которые остались здесь.
– О! – сказал Пушкин, глядя в пустоту.
– Именно, – сказал Чечен и добавил ещё что-то, уже неслышимое из-за пришедшего вдруг на ум: «Во имя истины священной».
– Слушай, – Александр зашуршал огрызком пера. – Я поработаю немного, ты загляни через полчаса?..
– Что? – удивился Чечен. – Да…
И ещё говорил, Пушкин даже отвечал ему, медленно выпроваживая за дверь. Чечена принял с рук на руки Никита и отконвоировал в пустующую комнату гостиничного номера.
Пушкин уткнулся в листы.
Иногда ему казалось, что он разучился писать стихи. Однажды после Пасхи он долго ничего не писал, так что стало казаться, что эта Пасха навсегда сломала что-то в его жизни, и стихи больше не родятся. Потом вдруг появились, и Александр повторял их несколько дней, читал Вяземскому и Карамзину, ловя себя на том, что довольство от написанного сильнее, чем желание творить что-то ещё. Было даже неясно, как это вообще возможно – сесть и сочинить новое. Две недели он был абсолютно счастливым человеком, не имеющим ни малейшего отношения к поэзии. Потом всё вернулось, наклюнулось восьмистишие, навеянное Катуллом (« Оставь, о Лезбия, лампаду близ ложа тихого любви »), но дальше этих строк ничего не случилось. Зато появилось про Эдвина и Алину, и ещё какое-то…
Читать дальше

![Леонид Поторак - Странные сближения [Полная версия]](/books/34950/leonid-potorak-strannye-sblizheniya-polnaya-versiya-thumb.webp)