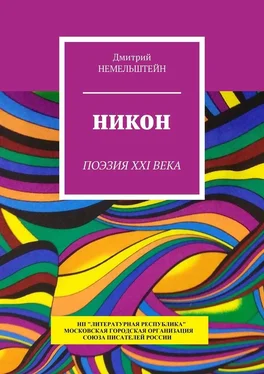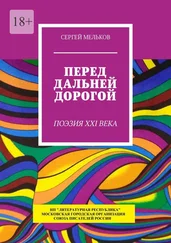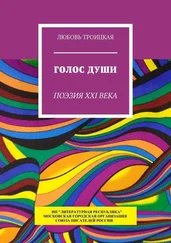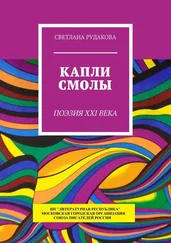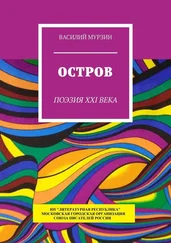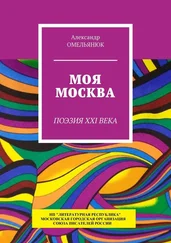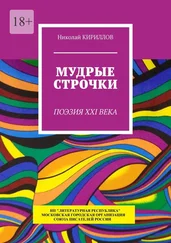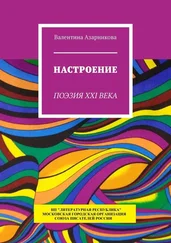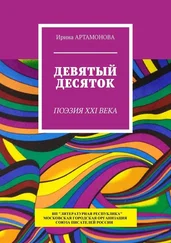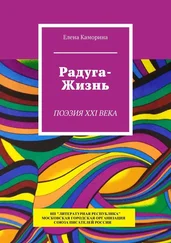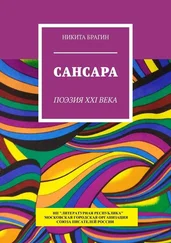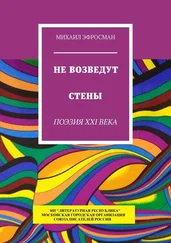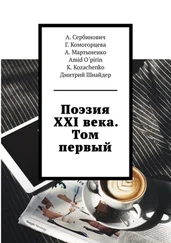Трилогия довольно велика по объёму, это обусловлено необходимостью максимального раскрытия темы – не только образа Никона, но и всей общественно-политической и религиозной ситуации в России XVII столетия. В тексте по ходу действия возникают и встают перед глазами читателя как живые царь Алексей Михайлович, гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий и другие важные исторические фигуры. Тема русского общенационального единства красной нитью проходит через все три части, являясь стержневой в этом масштабном произведении. В концентрированной, страстной и осмысленной форме эта тема выражена в словах патриарха Никона, которыми завершается трилогия:
Всё в воле Божьей: страны, человеки…
Ещё немало предстоит камней
Собрать державе русской воедино.
Где будут воевать и дух, и плоть.
Да распрямятся русских братьев спины.
Да приведёт к единству нас Господь!
Особого внимания заслуживает язык трилогии, своим лексическим своеобразием убедительно выражающий атмосферу и дух эпохи. Старинные слова, которые автор использует с должным чувством меры, не затрудняют процесс чтения, но индивидуализируют героев, создавая достоверность образов. Обширный блок примечаний в конце текста даёт возможность читателю освежить в памяти исторические данные, чтобы за художественной составляющей не потерять онтологические русские смыслы, заключающиеся в описываемых событиях.
Трилогия Дмитрия Немельштейна «Никон» – значительное явление в русской стихотворной драматургии, подтверждающее актуальность, плодотворность и большие возможности этого жанра. Художественная, духовная и просветительская роль её велика, особенно в наше время, когда русское национальное самосознание подвергается агрессивным нападкам и попыткам ревизии. Классическая русская литературная традиция обладает неисчерпаемым потенциалом, и читатель получил ещё одну возможность убедиться в этом.
Секретарь Союза писателей России
Кандидат филологических наук
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Чеченской Республики,
Республики Дагестан
Действительный член Петровской Академии наук и искусств
НИКИТА МИНОВ
ЮНЫЕ ГОДЫ ПАТРИАРХА
Н и к и т к а – патриарх Никон в детстве
Н и к и т а – патриарх Никон в юности и молодости
М и н а – отец Н и к и т ы, кузнец и землепашец
С т е п а н и д а – мачеха Н и к и т ы
Отец И в а н – священник, настоятель церкви села Лысково
Н а с т е н ь к а – дочь священника (в детстве)
Н а с т а с ь я – дочь священника (в юности и молодости)
П а в л у ш а – сын священника (в детстве)
П а в е л – сын священника (в юности)
А в р а а м и й – игумен, настоятель Макарьевского Жёлтоводского монастыря
В а с и л и й – келейник
А р с е н и й – высокообразованный монах, наставник послушника Никиты
А р и н а – матушка, жена священника Ивана
С а в е л и й – староста московского прихода, окормляемого отцом Никитой
Два мальчика – дети Степаниды
Купцы
1612 год. Весна. Село Вельдеманово. Раннее утро. В горнице царит полумрак. На лавке сидит мальчик – Никитка. Руки на коленях. Взгляд устремлён на образа. Проходит несколько мгновений. Дверь отворяется. В избу входит Мина – крепкий мужик – отец мальчика.
М и н а (с доброй усмешкой)
Покуда тятя задавал скотине,
Ты уж с полатей ск о чил и сидишь.
И зришь, как барин при великом чине.
Лезай назад. Чай стол свой не проспишь.
Вздыхает.
А коли сон нейдёт, снеси поленьев
К печи охапки две, а то и три,
Чем так сидеть. Негоже знаться с ленью
В твои лет а . Да не споткнись, смотри…
Никитка молча слезает с лавки, идёт к двери, набрасывает на себя кожушок. Выходит.
Отец продолжает негромко самому себе наговаривать.
Весна дружна. Не то, что в прошлом годе…
Дён двадцать – и лошадку запряжём
В плужок. Не в час зачнём – и… сев негоден,
И в осень мы уже не с барышом.
Оно ведь как? Коль семя напиталось
Водицей, что в землице, в самый раз —
Взойдёт крепк о , а там нужна и малость —
Три дождичка на лето… И весь сказ.
А припоздал, в сухую землю бросил
Читать дальше