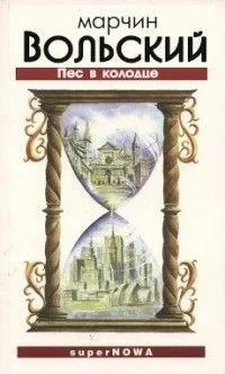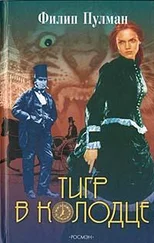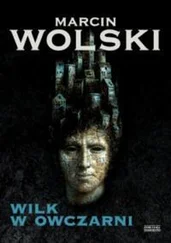Да и сегодня эти птички слетелись стаями, явно вынюхав неизвестным мне образом грядущую казнь. В конце концов, здесь же находился Колодец Проклятых, по легенде, ведущий до самого центра земли, и который, вроде как, выкопал сам дьявол по приказу императора Апостата. В давние времена сермяжной веры казалось вполне возможным, чтобы бес мог призвать из адских пропастей армии чертей против набожных христиан. И горожане на полном серьезе, когда заканчивалось очередное столетие, со дня на день ожидали пришествие Армагеддона. Никто из горожан не помнил, когда этой штольней пользовались в последний раз — вполне возможно, что Колодец стоял, не используемый с тех времен, когда Джованни Леоне сбросил в его бездну неверную супругу — Джиневру Галльскую, согласно преданиям, прекрасную, будто весенний день. Зато развратную, словно ночь шабаша. Бывало, в ходе уроков рисования, когда мой
preceptore (наставник — ит.) предлагал мне рисовать архитектурные детали, я садился на прохладной, замшелой колодезной обмуровке, и, несмотря на страх перед головокружением, с любопытством заглядывал в мрачную глубину, пахнущую вовсе даже не преисподней, а какой-то старой сыростью с прибавлением таинственного и трудного для идентификации запаха, и потому ужасно беспокоящего. Быть может, именно этот специфический запах вызвал, что городские стражники, нищие и те, у которых вино отобрало сдержанность речи, называли его "Старой Пиздой". Еще рассказывали о безумном монахе, который во времена охоты на катаров, желая доказать, что он не еретик, положился на Суд Божий и, словно Эмпедокл в кратер Этны, вскочил в эту бездонную дыру, и через неделю вылетел оттуда в виде белой птицы.
Неподалеку от колодца чернело окошко подвала, в котором морили голодом должников-рецидивистов, и ход в камеру пыток с пресловутой Железной Девой и ложем Прокруста… Но вот что придумано сегодня для меня? Ох, много хлопот доставил я в последние дни органам правосудия в Розеттине. Знаю, что в Трибунале много спорили о том, как следует меня казнить, ибо, как человека благородного у меня имелось право на эшафот, зато как еретика меня следовало сжечь. Вообще-то, наша iustitia имела множество возможностей — вырывание плоти клещами за святотатство, каменование за разврат молодежи, сожжение за чары… Суд переложил принятие решения в руки эрцгерцога. Клянусь пупком Венеры! По моей причине этот слабый человек, походящий на миногу мужского полу, должен был наконец принять какое-то решение. Какое? На его месте, я бы приказал насадить себя на кол, хотя то и был азиатский обычай и для многих гуманистов считающийся необычным. Но какое еще наказание должен был он выбрать…
Ведь мое главное и единственное преступление не могло быть никогда раскрыто. То, что я писал книги, вдохновленный древними мужами, что проводил запрещенные исследования, что игрался в алхимика и хирурга, философа или шута — это, возможно, и можно было каким-то образом простить. Под напором ханжей осудить на бичевание, потребовать публичного покаяния, изгнать в конце концов… Только ведь не это представляло суть моего преступления.
Боюсь ли я смерти? А разве существует какое-либо создание, которое бы не боялось неизвестного? Вы же видели, как умирает верный пес, когда глаза его затягиваются бельмом, или как умирает смертельно раненная птица, трепещущая в наших беспомощных руках. Да, боюсь И испытываю громадную печаль. Ведь столько чего мог бы я еще совершить. Прежде всего же, страдает мое любопытство, что не узнаю я, что случится через год, через день, через мгновение. Хотя, а разве некто, испробовавший хоть капельку жизни, не знает о ней уже всего? Как там писал об этом мой отец:
Какова ты, Смерть?
— Громадная тишина, черный матовый мрак; холодая, мягкая безмерность, благословенное беспамятство…
Тогда почему же тебя боятся?
Понятно, молодые — перед ними будущее, радость, счастье, по крайней мере — надежда…
Но старцы? Почему боятся те, которые даже надежды не могут уже иметь?
Они боятся Твоей тишины, хотя сами уже издавна глухи; боятся Твоего мрака, хотя издавна уже слепы; опасаются Твоей безмерности, хотя давно ужк утратили чувство измерения; боятся беспамятства, хотя памяти в них давно уже нет.
И, тем не менее… судорожно держатся, отчаянно, искривленными пальцами, беззубыми челюстями жалких остатков существования.
Они словно вонючие лишаи на прекрасном лице мира.
Читать дальше