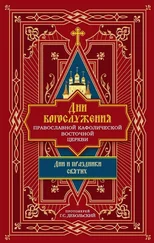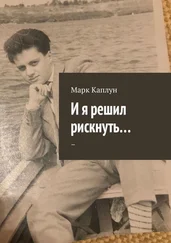– Пошёл вон, червяк! – яростно выкрикнула девушка, поморщив курносый нос.
– Иду, иду, – опасаясь новых телесных повреждений, ретировался художник-постановщик.
– Не идёшь, а ползёшь, – вдогонку прошептала Татьяна, метнув в спину любовника пару молний из вишнёвых глаз и расплакалась, как её тёзка, уронившая в речку мячик, когда за ловеласом закрылась дверь.
Итак, один «художественный» роман закончился. Настало время другого. Андрей был моложе Татьяны на семь лет, но разницы, во всяком случае, внешней, не замечал никто. Андрей выглядел старше своих лет, а Татьяна, в силу профессиональных навыков, моложе. Их связь привела к свадьбе и рождению пухленького синеглазого малыша.
«Занавес», а не «папа» или «мама», стало первым словом карапуза. Ясли и детский сад ребёнку заменил Его Величество Театр. Первое слово бутуза не только не огорчило или удивило родителей, а скорее порадовало, убедив их в том, что малыш полностью и без остатка готов посвятить себя служению подмосткам.
С детства Дима только и слышал, что о премьерах, о закулисной жизни актёров, но в основном о работе родителей. В его семье была только одна причина для скандала, но эксплуатировалась она с завидным постоянством. Андрей и Татьяна до хрипоты выясняли кто важнее для театра: художник-гримёр или художник-бутафор?
Подобные разборки были экспромтами, но со стороны выглядели как хорошие постановки, неизменно заканчивающиеся битьём посуды. И это было не просто битьё, это было ритуально-магическое действие. Дима, как заворожённый, следил за происходящим. Особенно ему нравились эпилоговые стадии перепалок, когда уставшие, но довольные родители садились пить чай посреди хаотического великолепия осколков регулярно обновляемой посуды. С возрастом Дима начал вклиниваться в каждую ссору, привнося в неё какую-нибудь свою… сценическую изюминку. Вскоре родители на собственной шкуре ощутили его не всегда чуткое участие.
Однажды он налил в чашку, естественно, ненароком оставленную им на столе, подсолнечное масло. В результате продуманных действий мальчик стал свидетелем прекрасного парного выступления своих родителей на дубовом паркете, где «танцующие» и впрямь могли дать дуба.
Посему, окончив школу, творчески одарённый юноша не стал решать для себя родительскую дилемму. Он разобрался с ней ещё в детстве, осознав, что его призвание – стать, увы и ах, режиссером-постановщиком.
Надо сказать, что Каинск являлся университетским городом, где не только студенты, как обычно, сходили с ума, но и преподаватели. Во всяком случае, один из них абсолютно достоверно стал сумасшедшим. Это был преподаватель Каинского политехнического университета, доктор исторических наук, профессор Колышкин Андрей Витальевич, тот самый, который любил словечко «люмпены».
Столь неутешительный вердикт мужчине средних лет с бульдожьим выражением лица, жирными, словно смазанными внутренним салом, губами и не по годам шаркающей походкой вынес постоянно хихикающий, похожий на упитанного суслика, главврач частной психиатрической клиники «Тихая гавань» Мишкин.
В этом случае диагноз не носил заказной характер. На лицо и на лице был характерный, стандартный набор далеко не зародышевых симптомов мании величия: восхваление собственных качеств и достоинств, самолюбование, игнорирование чужого мнения, перепады настроения, агрессивность, и нарушение сна. Кроме того, Мишкин совершено справедливо поставил профессору ещё один диагноз – диссоциативное расстройство идентичности, а точнее расщепление личности Колышкина в личности великого корсиканца.
«Тихая гавань» символично располагалась неподалёку от театра. В клинике тоже был свой «театр» с режиссером Мишкиным. Но если большинство «актёров» «Тихой гавани» были изначально сумасшедшими, основная часть служителей мельпомены сходила с ума постепенно, но уверенно. Особая атмосфера города и в целом мрачный репертуар театра способствовали этому.
Что касается окрестностей Каинска, то они выглядели по-книжному живописно-удручающе. В маслянистых, медузоподобных лужах отражалось грустное солнце, наглая грязь прилипала к дешёвой обуви, люди с квашенными лицами изрыгали маты и примитивные фразы, делающие их ещё более приматоподобными. Асфальтом здесь и не пахло, но зато, в зависимости от месторасположения окраины, несло мазутом, пылью, пивными дрожжами и, конечно же, конечно же городской свалкой.
Хибары были похожи друг на друга как помидоры в теплице. В них ютились такие же, похожие друг на друга, в зависимости от возрастной категории, особи. Они тоже были неотъемлемой частью Каинска. Только отверженной.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
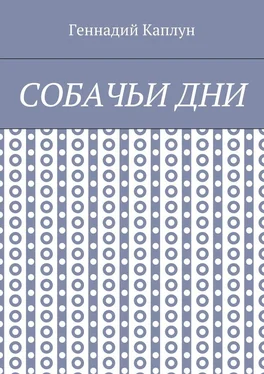

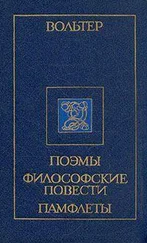
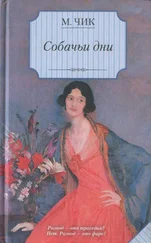
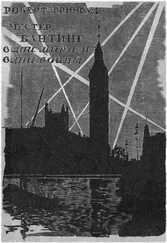
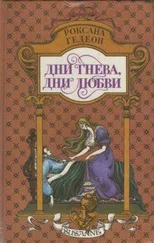
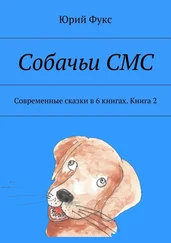
![Настя Чацкая - Собачьи зубы, собачье сердце [СИ]](/books/420591/nastya-chackaya-sobachi-zuby-sobache-serdce-si-thumb.webp)