Это произойдет в 1982 году. А на следующий год небольшой отряд Балтийской археологической экспедиции Института археологии под руководством А.К.Станюковича приступит к его изучению. Ученые частично раскопают фундаменты одной из построек; расчистят остатки стен и очагов, что позволит понять конструкцию этого типичного для Прибалтики жилого сооружения, строительство которого, вероятно, было начато в конце XVII века.
За полтора столетия в стенах этого дома выросло не одно поколение. А в 1810 - 30-х годах он был сметен безжалостным огнем, на что указывал мощный золистый слой.
В отложившихся культурных слоях было найдено более 300 предметов. Среди них костяная шахматная фигурка, фрагменты курительных трубок, бытовой посуды, украшений, одежды, орудий охоты и рыболовства.
С помощью протонного магнитометра Станюкович определил общую планировку поселения, выявил остатки других строений, скрытых грунтом. Аквалангисты исследовали найденные под водой фундаменты.
Продолжить работы на поселении удалось лишь спустя 11 лет. Целью экспедиции, организованной Музеем Мирового Океана и Центром комплексных подводных исследований, стало изучение остатков сооружения, скрытого водами Куршского залива.
Первое, что поразило после прибытия на место автора статьи, возглавившего работы, так это вид нещадно цветущей воды. Она была густо салатовой, словно вблизи берега потерпел крушение танкер с зеленой масляной краской. Впечатление усиливали и окрашенные валуны подмываемых фундаментов, и «камуфляжный» окрас тел подводников, решивших слегка освежиться. Не лучше было и под водой - почти нулевая видимость от торфянисто-илистой взвеси.
Лагерь разбили на песчаном перешейке, отделяющем залив от озера Затон. Говорят, что в довоенное время оно использовалось для разведения угрей, на что указывают несколько рукотворных каналов, примыкающих к озеру и сохранивших следы былой культуры. Сейчас озеро заболачивается, порождая мириады комаров и гадюк. Место живописное, но не очень уютное для жилья. Перешеек шириной не более 20 м, приютивший палатки экспедиции, заливался водой при сильном волнении. И все же он имел один плюс - продувался, не давая летающим вампирам построиться в боевой порядок.
Вскоре все пошло своим чередом.
Работа спорилась. На берегу еле успевали обрабатывать добытый материал. Необходимо было сфотографировать и зарисовать находки, зафиксировать их местоположение и глубину залегания, вычертить план обмеряемых при участии водолазов «Калининградморнефтегаза» остатков каменных стен, «привязать» их к берегу и многое другое.
Успеху в работе способствовала и удаленность от ближайшего населенного пункта г. Зеленоградска. Он находился в 5 км западнее от поселения, и немногочисленные отдыхающие, все же иногда забредающие «на огонек», не «пытали» нас вопросами, нашли ли мы золото.
Этот типичный интерес местных жителей к «презренному металлу» почему-то всегда утомляет и отвлекает от работы. Другое дело - местные рыбаки. Быстро убедившись, что выставленные недалеко от берега буи, обозначающие границы затопленной постройки, не являются новым, неизвестным орудием лова, они охотно делились с нами своими наблюдениями. А рассказать им было о чем: о местах зацепов или торчащих из берега камнях, которые могут оказаться валунами древних фундаментов, о случайных находках и легендах, распространенных в этих местах. Такая информация важна и помогает порой выйти на действительно ценный объект.
Постепенно на листе бумаги стал вырисовываться обмеряемый под водой фундамент. Он был сложен в несколько рядов из валунов, достигающих в длину до полутора метров каждый, и имел дугообразную форму, ориентированную почти на восток - запад. От рассыпания кладку предохраняли вбитые в дно ольховые, сваи. Этот прием широко использовался в старину при строительстве гидротехнических сооружений практически повсеместно, где имелся лес.
Форму строения объяснила лоция: дугообразная стена защищала его от преобладающих в этих районах северных и северо-восточных ветров, а небольшие выступы-переломы треугольной формы служили волнорезами. Южная часть постройки имела удобные «карманы» для швартовки небольших судов и лодок. Это был, по всей видимости, причал. Причем довольно крупный - длиной более 30 м.
Вероятно, здесь останавливались суда, приходящие в Кранц, основанный в середине XIII века, проходили контроль, товар перегружали в лодки и по реке доставляли к городу. На это косвенно указывает и разнообразие находок, обнаруженных под водой. Среди них: голландские курительные трубки XVIII века, фрагменты поливных и неполивных сосудов, фарфоровой посуды, медные монеты достоинством в 1 шиллинг конца XVIII века с монограммой Фридриха-Вильгельма II, медные, оловянно-свинцовые и латунные пуговицы, часть из которых английского производства. Некоторые на лицевой стороне имели изображения цветов, крест-якорь-сердце (вера-надежда-любовь). Но больше всего было керамики. Это фрагменты сосудов местного производства и западноевропейского типа. Центрами изготов ления последних, так называемого каменного товара, б города бассейна Рейна: Ререн) Зигбург, Фрехен и др. К этим находкам следует добавить керамику, произведенную по сходной технологии в Риге, а также «голубые произведения» - сосуды с рельефным растительным орнаментом и цветной поливой. Центр их производства - Рейнская область, Вестервальд. Эта посуда была распространена в городах Прибалтики и изготавливалась в XVII-XVIII веках.
Читать дальше
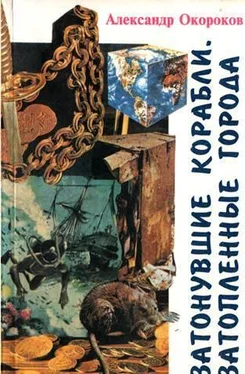
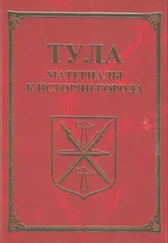

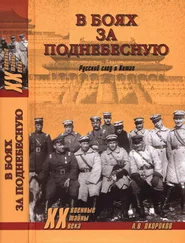
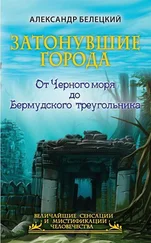

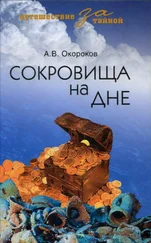
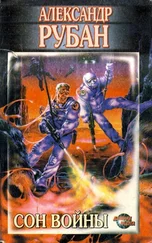

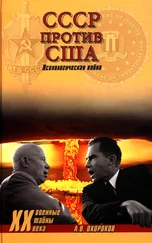
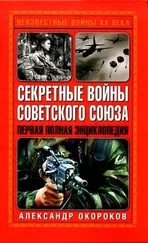
![Александр Чернышев - Героические корабли Великой Отечественной [Гвардейские и Краснознаменные]](/books/427824/aleksandr-chernyshev-geroicheskie-korabli-velikoj-ote-thumb.webp)