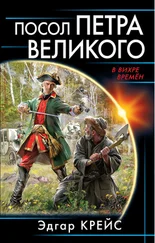Пётр замолчал. В его прежней жизни дочери было всего пять лет, и он не знал, что ещё сказать же, казалось бы, такой взрослой девушке.
– Да ладно тебе, отец! Ведь не маленькая уже! – весело ответила дочь.
Пётр хотел ещё что-то сказать, но только сконфузился, опустил голову и сел за стол. От смущения стал разглядывать кухню. Она разительно отличалась от той, к которой он привык. Выкрашенные тёмной масляной краской стены, эмалированная раковина с медным краном, обеденный стол и две тумбочки у стены, а на них стояли два примуса. Один из них сердито шипел. На нём жарилась картошка. Её дразнящий аромат стоял по всей кухне. Дочка сняла с примуса шкварчащую сковородку. По соседству с примусом, над которым колдовала его мать стоял ещё один. Значит семья Петра в квартире не одна. Дочка поставила на примус на место сковородки кипятить чайник, а сама села за столом, напротив отца и, подперев ладонями подбородок, чуть улыбаясь смотрела на него. «Прямо, как мать в детстве. Она тоже любила смотреть, как я ем!», подумал Пётр, осторожно проглатывая горячую картошку.
– Ты что, сама-то не ешь?
– Ничего, ещё успеется! Вот тебя провожу – тогда спокойно и покушаю.
На кухню, не здороваясь, вошла хмурая женщина неопределённого возраста с покрасневшим лицом и лиловым фингалом под глазом. Она зажгла свой примус, сняла с забитого в стену гвоздя чёрную от нагара кастрюлю и подставила её под кран. Пустив в неё воду, она обернулась. Присмотрелась к Петру и расхохоталась неприятным, визгливым смехом.
– Привет сосед! Во как тебя бандиты-то ухайдокали! И поделом тебе! Люди на жизнь добывают себе еду где и чем могут, а он, ни за что, ни про что, гоняет их в хвост и гриву безо всякого на то зазрения совести! А сам то ты жируешь, соседушка! Вон, картошечку на масле с утреца жрёшь, да не подавишься! А у людей может дети малые не кормлены и сами неделю не жрамши – вот они и ворують!
На кухню вбежал пацан лет десяти в грязной рубашонке и стал канючить у матери еду. Та оттолкнула его от себя. Влепила затрещину и выгнала из кухни.
– Сиди и жди, пока отец чего-нибудь не притащит! – крикнула она ему вдогонку. – Ужо должен, как вернуться! У, ненавижу ваше милицейское отродье! Житья нормальным людям не даёте! Мой вон, как ишак днём на заводе, а ночью, вместо того чтобы дрыхнуть, сторожем вкалывает! А этот, прям как фон-барон какой-то, ночью на чистой простынке спит себе и в ус не дует, как это простому народу-то живётся в вашей поганой стране! Победители! Жрать бы народу чего дали, а то всё пятилетку в четыре года! А толку-то, всё равно все голодные и в рванье ходят, акромя таких вот, как ты и твоих хозяев!
Женщина отвернулась и сплюнула прямо на пол. Затем некоторое время смотрела на Петра и, в конце концов, растёрла плевок рваным тапком и отвернулась. Кастрюля уже успела наполниться, а вода полилась через край. Соседка помянула неизвестную мать и перекрыла воду. Петра аж всего перекорёжило. Но никогда он не воевал с женщинами, а спорить с людьми подобного уровня – это самому опускаться до такого же уровня. Лишь молча взглянул на дочь, но та безразлично махнула рукой и тихонько шепнула:
– Я о твоём подвиге на пожаре, как ты и просил меня, никому не говорила. Так что, пусть себе языком чешет. У неё дом разбомбило, мать парализованая лежит. Как-то даже жалко её. Да и я уже привыкла к её ругани. Кулаками она не машет, только ругается – и то, по пьяне, хотя она, наверное, трезвой никогда и не бывает. Ну, да ладно. Соседей ведь не выбирают!
Пётр чуть не подавился, когда Марья сказала о его подвиге, но расспрашивать при людях он не стал, а вспомнил, как мать ему рассказывала, что сразу после войны их двушку «уплотнили». Подселили одну семью, которая вернулась из эвакуации в Ташкент. Они там всю войну пробыли, а когда приехали, то жить им было негде. Дом их во время бомбёжек сгорел. Вот горисполком и решил, что две комнаты на одну семью – это многовато. Подселёнными оказалась как раз семья Венькиного деда. Позже им дали освободившуюся квартиру этажом ниже, но это было уже потом.
«А этот десятилетний паренёк – значит Венькин отец! Чудеса!», – подумал Пётр. Быстро допил остывший морковный чай с зачерствевшей коркой чёрного хлеба и вышел в коридор. Одел фуражку, посмотрелся в зеркало. Если бы не ожог почти, что на всё лицо, то вылитый дед с послевоенной фотографии, которую он не раз видел у матери в альбоме. Достал наган. Крутанул барабан. Полный. Ну, можно идти на службу! Первый раз, так сказать, в новой для себя роли уполномоченного убойного отдела города Ленинграда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







![Эдгар Крейс - Разведчик Петра Великого [litres]](/books/399974/edgar-krejs-razvedchik-petra-velikogo-litres-thumb.webp)
![Эдгар Крейс - Посол Петра Великого [litres]](/books/423488/edgar-krejs-posol-petra-velikogo-litres-thumb.webp)