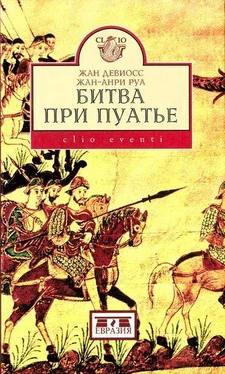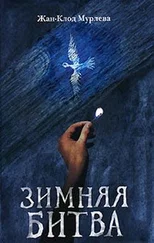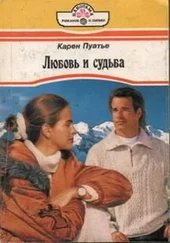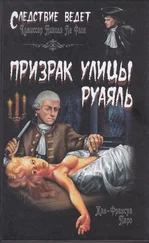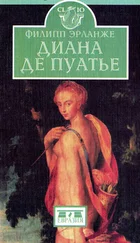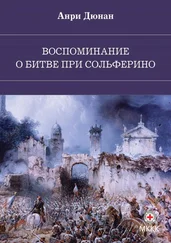В этом своем начинании, помимо поддержки Хадиджи, Пророк мог прибегать к благоразумию своего кузена Вараки, которого он также убедил в истинности своих видений. Свидетельства расходятся по поводу этого персонажа, привлекательного, но малоизвестного, в котором некоторые видят христианина и заявляют, что это мог быть переводчик Евангелия с сирийского на иврит и арабский. [49]Таким образом, вполне возможно, что именно в той культуре, представителем которой являлся этот ученый, Мухаммед нашел подтверждение тому, что он продолжает линию Авраама; она же привела его к согласию с сектой, предававшейся аскетическим практикам христианского происхождения, обозначаемой в мусульманском предании наименованием ханифиты. Предание заставляет Вараку умереть еще до откровения, но это, безусловно, лишь для того, чтобы не пришлось осудить его за неверие. Первыми обратилась Хадиджа, затем кузен Мухаммеда Али, его приемный сын Зайд, молодой раб, подаренный ему Хадиджей, происходивший из некоего христианского племени сирийской степи, который, следовательно, тоже мог просветить Пророка в том, что касалось христианства, причем в более популярном плане, чем Варака, и, наконец, два именитых человека, Осман и Абу Бакр. В течение трех лет проповедь не выходила за рамки этого кружка и оставалась в тайне.
Мы не знаем, каким был первый текст, ниспосланный Мухаммеду. Суры и стихи, составляющие Коран, были собраны Османом (в 651 г., то есть через двадцать лет после смерти Пророка) и расположены лишь по признаку длины, от самых длинных к самым коротким, за единственным исключением – первой суры, представляющей собой молитву. Похоже, что с хронологической точки зрения самые короткие суры были и самыми ранними, и это заставляет утверждать, что сегодня Коран читается в обратном порядке. К несчастью, чтобы восстановить истинную последовательность, недостаточно просто переставить их, и мусульманские ученые осознают всю сложность этой задачи, поскольку Ас-Суйути писал в XV в., что восстановить этот божественный порядок выше человеческих сил. Европейские ученые, которые доныне пытаются это сделать, обычно следуют предложенному Нольдеке делению на четыре периода, три из которых – мекканские. [50]Именно такое деление с некоторыми поправками в нюансах, опирающимися на очень продолжительные и скрупулезные исследования, предлагает нам Блашер, тем самым физически восстанавливая Коран, ниспосланный свыше. [51]Как и Аль-Бухари, он колеблется между двумя отрывками, одним, взятым из суры XCVI (сгустившаяся кровь), и другим, из суры LXXIV (закутавшийся в одежду). [52]Блашер предлагает любопытный перевод «сгустившейся крови», как «прилипания, связи». [53]Более правдоподобным представляется нам перевод Монте, и именно ему мы снова отдадим предпочтение.
Читай во имя Господа твоего, который создает…
Создает человека из сгустившейся крови,
Читай… всеблагий Господь твой,
Который дал познания о письменной трости,
Дает человеку знание о том, о чем у него не было знания. [54]
Блашер вместо «читай» ставит «проповедуй», и у обоих переводов, одинаково допустимых, есть свои сторонники «Проповедуй» подчеркивает мысль о властном призвании, побудившем Мухаммеда к распространению слова Божия и положившем начало его устной проповеди, которая таковой всегда и оставалась. Предание сообщает нам о настоящей борьбе Мухаммеда с ангелом при его первом появлении, когда тот показал ему длинную полосу шелковой ткани с вышитыми на ней буквами, а Мухаммед в ответ на его приказ прочитать их сказал: «Я не из тех, кто читает», и почувствовал, что завернут в складки этой ткани так безжалостно, что испугался задохнуться». [55]Годефруа-Демомбин поддерживает промежуточную версию, [56]в которой ангел трижды повторяет «читай наизусть!», в то же время яростно встряхивая будущего пророка. Затем он показывает ему чудесную ткань, на которой записано откровение, уточняя, что сам прочитает его Мухаммеду и научит декламировать его наизусть. Вследствие этого Годефруа-Демомбин полагает, что следует отказаться от перевода икра как «читай». [57]
Тогда трудно понять предпоследний стих, прославляющий Бога за то, что он научил человека пользоваться каламом, то есть пером. Было бы удивительно, если бы он отказал в этой привилегии своему пророку.
Как бы то ни было, мы плохо понимаем причины, побудившие мекканцев отвергнуть проповедь, без сомнения, менявшую дух древней религии, наполняя его новым рвением, но с сохранением скрупулезного почтения к обычаям и привилегиям родного города, а о том, во что они выливались в плане материальных благ, Мухаммеду было известно лучше, чем кому-либо другому. Коран сделал Аллаха покровителем караванов. Как отмечает Годефруа-Демомбин, [58]курайшитам потребовалось пятнадцать лет, чтобы осознать это. Следует ли связывать это с издавна отмечаемой преданием враждебностью Абу Лахаба, дяди Пророка, который без конца досаждал последнему и чинил ему неприятности с тех самых пор, когда тот вознамерился обнародовать свое послание? По одной версии, Мухаммед поручил Али пригласить на трапезу сорок человек и, как следует накормив и напоив их, поднялся, чтобы обратиться к ним с речью. Тогда Абу Лахаб поспешил объявить: «С самого начал ваш товарищ околдовал вас». Присутствовавшие разошлись прежде, чем Мухаммед успел сказать хоть слово. [59]
Читать дальше