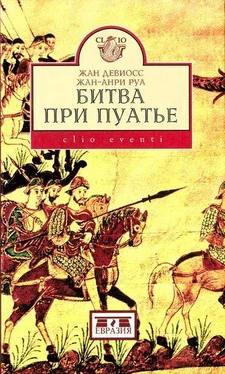Благодаря достатку Мухаммед отрекся от нищеты и окружил себя определенными удобствами. Он пользовался репутацией честного горожанина, был прозван надежным человеком и, должно быть, блистал той уравновешенностью, которая является высшей добродетелью мекканца. Как мимоходом сообщает Предание, он был избран для разрешения запутанной тяжбы. Когда дожди разрушили Каабу, четыре племени курайшитов отстроили ее заново, сделав более прочной; материалом для нее послужила древесина потерпевшего крушение греческого корабля. Когда же речь зашла о том, чтобы огородить один угол и вделать в него черный камень, вспыхнул яростный спор. Кому достанется эта честь? На нее претендовали все четыре вождя. Мухаммед велел положить камень на плащ и вручил четыре его угла четырем вождям, затем сам взял камень и замуровал в священном месте. Таким образом, мы получаем дополнительное доказательство его влияния и представление о его дипломатических способностях, которые впоследствии творили чудеса в Медине и привели столько соперничающих племен к объединению ради общего дела.
Итак, Мухаммед привык совмещать нужды торговли с духовными запросами и ежегодно на месяц удалялся в одиночестве на гору в окрестностях Хира, причем это не удивляло Хадиджу. Это оставляет место двум гипотезам, нисколько не противоречащим друг другу либо речь здесь идет о некоем обычае, бытовавшем тогда в определенных кругах мекканского общества, неотступно преследуемых более суровыми религиозными требованиями, чем это возможно в рамках достаточно примитивного в своей практике политеизма, либо супруга будущего пророка уже предчувствовала пусть еще не истинное призвание своего мужа, но, по крайней мере, то, что он больше других нуждается в возможности предаться мистицизму.
Во всяком случае, откровение явилось как гром среди ясного неба, и, может быть, для самого Мухаммеда это было еще неожиданнее, чем для его первой жены. Мы уже подчеркивали патетический тон посвященных этому событию отрывков Корана, и в описании этих двух видений стремление убедить самого себя в их ценности становится еще более заметным из-за того, что Мухаммед болен и не знает, нельзя ли отнести их за счет своей болезни:
Соотечественник ваш не заблудился и с пути не сбился
Он говорит не от своего произвола.
Он откровение, ему открываемое.
Его научил крепкий силою,
Обладатель разумения Он явился ему.
(Сура звезды, LIII, стихи 2–6) [42]
Затем ниже та же назойливая мысль:
Он был от него на расстоянии двух луков, или еще ближе.
Тогда открыл он рабу его то, что открыл.
Сердце его не обманывалось тем, что он видел.
(Та же сура, стихи 9 – 11) [43]
И далее снова
Взор его не обманывался и не блуждал.
Действительно, он тогда видел величайшие из знамений
Господа своего.
(Там же, стихи 17–18) [44]
И опять, в суре обвития, LXXXI, стихи 22–25: [45]
И согражданин ваш не беснующийся
Он некогда видел его на светлом небосклоне,
У него нет недоумения о таинственном
Он не есть слово сатаны, прогоняемого камнями.
Можно вместе с Блашером настаивать на подробностях видений и двух ступенях откровения – сначала сон, а затем само видение – на сопровождавших его физиологических проявлениях, наконец, на периоде жестокой тоски, которая пришла вслед за ним, [46]связывая эти различные фазы с тем, что дает нам по части мистического опыта современная психология. В частности, она гласит, что за периодом сомнений должна была последовать непоколебимая вера Пророка в свою миссию. Но, по нашему мнению, основная проблема не в этом. Понять нужно то, каким образом близкие Мухаммеда и то небольшое ядро испытанных приверженцев, которое окружало его с самого начала, могли признать ценность принесенного им послания. Здесь речь идет в большей степени о социологии, чем о психологии, и слишком уж легко было бы ответить, что ясновидцы всегда находят людей, готовых следовать за ними, особенно в обездоленных классах, чтобы к собственной выгоде ниспровергнуть существующий порядок – ведь очевидно, что ни Хадиджу, ни людей его круга к этой категории отнести нельзя. Заявляют, что его проповедь встретила теплый прием у бедных христиан Мекки, а богатая торговая аристократия, напротив, немедленно отвергла ее. Возможно, впоследствии так оно и было, но вначале именно Хадиджа и родственники поддержали упавшего духом молодого человека и убедили его в обоснованности его миссии, хотя в тот момент не было ничего проще, чем его отговорить. Какой бы ни была любовь Хадиджи к своему мужу, одного этого чувства недостаточно, чтобы объяснить ее веру, вошедшую в противоречие с интересами ее класса. Не легче понять и столь скромный вначале успех откровения, если предположить, что Мухаммед сразу предстал как бескомпромиссный монотеист, призывавший к уничтожению идолов и в результате выглядевший еще большим святотатцем в силу того, что принадлежал к клану, который видел свою миссию в их почитании. Следовательно, нужно вслед за Уоттом допустить, [47]что новое религиозное движение должно было так или иначе опираться на ситуацию, сложившуюся в Мекке в эпоху Мухаммеда, а последний, как полагал Блашер, [48]вовсе не призывал к монотеизму в первых же своих сурах. В то время Мухаммед еще не потерял надежду, снискав расположение мекканской аристократии, создать приемлемую для всех синкретическую религию и освежить политеизм, упадок которого вызывал законное беспокойство у хранителей святилища Каабы и торговцев, чье процветание напрямую зависело от него.
Читать дальше