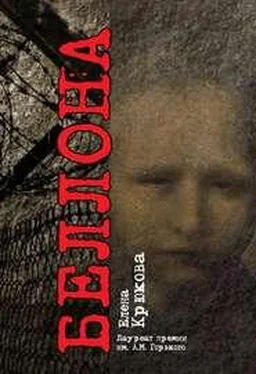В бокал лилась перевитая струя дурацкой французской шипучки. Вино для импотентов. Он скорчил рожу. Пить эту гадость?! На приемах он влил в себя вдоволь, на целый век вперед, этой бурды.
Рука офицера вермахта не успела отдернуться. Гитлер ударил кулаком по чужому обшлагу, бутылка в чужой руке дернулась, бокал неуклюже, как увалень-толстяк, свалился на скатерть, и шампанское полилось ему на брюки. Он зло, как кот, цапнул пустой бокал рукой и кинул через плечо. Ева даже не обернулась на звон разбитого стекла. За много лет она привыкла к его вытребенькам.
- Солнце мое, - сказала Ева беззвучно, ярко накрашенными, цвета холодной зари, губами, - я люблю тебя. Что прикажешь налить в новый бокал? Мозельского?
Она знает, я не люблю шампанское.
- Я люблю тебя, - сказал он тихо и зло. - Налей мне шнапсу. Сама.
Ева щелкнула пальцами. Бледный офицер гладил мокрый рукав. Уже несли бутылку. Булькал, низвергаясь с небес в бокал, прозрачный веселый шнапс. Ева накладывала ему на тарелку оливки и кислую капусту.
- Хочешь рыбки, мой дорогой? Они достали красную рыбу. В Берлине! Фантастично.
- Кто "они"? Мы, ты хочешь сказать?!
Ему казалось, он кричит, а он говорил тихо и ласково.
- Мы, извини, любовь. Конечно, мы.
У Евы с намазанных жирной кровью уст не слезала улыбка. Она намертво пришпилила ее, приклеила строительным клеем. Гитлер слышал гул вокруг себя -- это гудели его люди, его подчиненные, его слуги, его воины, его народ. Он говорили. О чем? О нем? Он не знал. Он не хотел слышать и знать.
Это свадьба, а все остальное надо выкинуть из головы. Они с Евой сегодня женятся. Они уже поставили подписи на документах. Брак, законный и долгожданный, и два голубя, целующихся на крыше, и два человека, они завтра должны убить себя, чтобы не достаться врагу живьем. Ева, мое дорогое дитя, я взял тебя, когда тебе было двадцать лет, и тринадцать лет ты была верна мне. Мы уже прожили жизнь супругов, жизнь Одина и Фрикки. Нам осталось прожить сегодня и завтра жизнь двух безымянных эльфов. А потом нам почистят пистолеты, всунут в кулаки, мы выйдем во двор, на свежий воздух, и, нежно поглядев друг на друга, выстрелим себе в висок. Нет, лучше так, моя Ева: ты будешь стоять навытяжку, как скаут, а я выстрелю сначала в тебя, потом в себя. Я сам убью тебя.
- Дорогие гости! Дорогие верные друзья нашего великого Фюрера! Позвольте поднять бокалы за здоровье молодоженов! Чудесная подруга могучего Вождя сегодня стала его законной женой! Сегодня великая пара...
Великая пара. Вот они уже и боги. Чего больше желать человеку при жизни? Он прожил свою жизнь. Он изжил ее. Проел, пропил; провоевал. Он вкусил великую войну, величайшую из всех, пережитых человечеством. Он пригубил военного горького, пьяного вина из жестяной фляги, и он читал слепыми, слезящимися глазами надпись на крышке: "С НАМИ БОГ", и из-под обожженных век вдаль летели зрачки, оставляющие на бесстрастном глазном дне красный негатив смерти. Война -- смерть; людишек слишком много расплодилось, война чистит человечество лопатой, бросает в печь, и печь работает неустанно, поленья тел горят, черный жирный дым летит ввысь. Никто и имен не запомнит. Никто не нарисует никогда.
Важно уметь убить память. Стерев с лица земли целые народы, ты посеешь радость сей минуты. Прошлого нет. Будущего нет. Есть только здесь и сейчас.
Он встал, качаясь. Он не был пьян. Он трезв как никогда. Он сейчас скажет. Скажет им всем. Напоследок. Навсегда. На память. Чушь, но ведь памяти нет! Ты сжег ее! В Равенсбрюке! В Треблинке! В Аушвице!
- Аушвиц, - сказал Гитлер, покачиваясь. Он высоко поднял бокал со шнапсом. Другой рукой он вынужден был вцепиться в спинку стула, чтобы не упасть.
- Что?
К нему наклонились. Его о чем-то спрашивали. Он не мог ответить. У него заложило уши.
- Сегодня! - Он возвысил голос. - Я пью! За эту женщину! Которая! Прошла со мной! Долгий путь...
Закашлялся. Покачнулся сильнее. Ринулись двое, с двух сторон подхватили под руки. Он устоял. Шепот гулял по душной комнате: Фюреру плохо, Фюреру дурно.
Он выпрямился. Ева сидела бестрепетно. Косила глазом. Он ощупывал глазами ее нарумяненную гладкую щеку, хрящик ее тонкого носа, ее русые кудри, умело заколотые чуть выше ушей, ее изящные ушки с изумрудами в мочках. Она всегда умела одеваться. И украшаться. Он так и не дал ей стать актрисой. Большой актрисой. У нее были задатки, но, он видел это, не было воли к действию. Она так и осталась женой. Кухаркой. Домашней шлюшкой. Молельщицей за него в кирхе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу