Но и в этом построении оказалась прореха. Если грешник получит вечное наказание на том свете, тогда нет интереса исправляться. Греши в свое удовольствие, пока жив. Все равно осужден. Потребовалась надежда и для скверных людей (в плен же никто не будет сдаваться, если заведомо известно, что пленных расстреливают поголовно). Христиане ввели второго бога — бога-адвоката для прошений о помиловании. Нагрешил, покаялся, прощен. И опять несправедливо. Если грешник получит прощение, стало быть, опять греши сколько угодно.
— В сущности, ты хочешь не бога проектировать, а нравственность, — заметил Борис Борисович.
— Может быть. Наверное, бог был олицетворением абсолютной нравственности: высший законодатель, высший судья.
— Но абсолютов быть не может. Сам видишь: за все семь тысяч лет не удалось придумать безупречного бога.
— Я тоже думаю, что нельзя придумать. Вот и докажу, что хорошего бога быть не может. Мы сами должны быть богами.
— Едва ли получится однозначное решение.
— А я нелинейщик, — напоминает Виталий.
Остается Павел.
Мнется он что-то, молчит, не похоже на него.
— Ну, а ты что, Павел?
— Пожалуй, я хотел бы себя испытать.
— То есть?
— Проверить, каков я буду в хорошей жизни, совсем хорошей.
Павел стесняется высказать все, что у него на уме. Друзья догадываются, зная его. Вот вырос он в трудной семье без отца, двое младших братишек, две младших сестренки. Привык с детства думать о других, знал, что следует делать. Дел всегда было выше макушки. Надо было зарабатывать рубли и считать рубли. Это вошло в плоть и кровь. И ставши взрослым, Павел думал о том, что надо заработать и послать семье, своим помочь, товарищам помочь. За то его и любили: человек, который о нас думает.
Но вот придет, и скоро придет, другая жизнь, совсем хорошая, когда все братишки и все сестренки бесплатно получат сколько потребно обедов, ботинок и платьиц; когда о заработках можно забыть, необходимость не будет подстегивать. Как поведет себя Павел в той жизни, где исчезнет денежный стимул?
— Павлушка, я тоже хочу испытать себя. Введи меня в свои произвольные параметры, — сказала Алла неожиданно.
— И меня.
— И меня.
— И меня…
— И нас с Гелием Николаевичем, пожалуй, — сказал
Борис Борисович. — Если вы не возражаете, конечно.
Если бы читатели не возражали, автор и себя ввел бы в список Павла. Интересно, как будет работаться в те времена, когда забудутся гонорары, договора, листаж, авансы, тиражи и прочая шелуха. Нет, конечно, и тогда я буду писать, но только то, что по душе. Только самое интересное. Но ведь интересы меняются. Сегодня одно хочется, а завтра — другое. Этак ничего не доведешь до конца. Так или иначе, надо характер выдерживать, себя пересиливать. И потом, мало написать, хочется, чтобы тебя прочли. Редакциям покажется ли интересным то, что волнует меня, читателя взволнует ли?
Кстати, о читателях. Вам не хочется испытать себя в Инфанте?
Ну вот и весь рассказ о романе. Остается написать роман.
Начало я уже придумал:
«Черное море бывает черным только ночью, Красное никогда не бывает красным, а вот Белое действительно оказалось белым. Было оно матовым, цвета чая с молоком и у горизонта сливалось с таким же матово-молочным небом. И в этом неопределенном мутном месиве глухо чернели массивные туши островов. Они были похожи на купающихся слонов, или быков, или динозавров. Некоторое время я упражнял свое воображение, но островков было слишком много. Не хватало зоологии на всех.
На пристани, где пахло мокрым лесом, солеными кожами и бензином, мне сказали, что «Лермонтов» придет через два часа. Не знаю, удачный ли это обычай, называть суда в честь поэтов. «Я прокачусь на «Лермонтове». Хорошо ли звучит, укрепляет ли уважение к Михаилу Юрьевичу? Тем более, что суденышко…»
Ну и так далее.
Обязательно напишу об Институте Нелинейной Фантастики… если только успею в этой жизни.

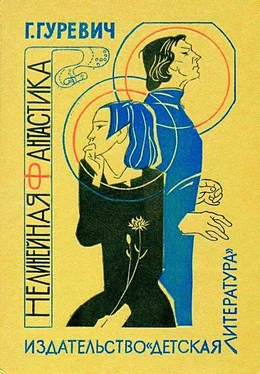




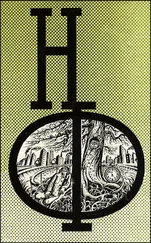
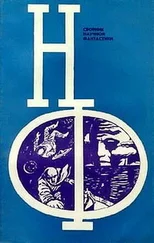

![Георгий Гуревич - Нелинейная фантастика [опыт конструирования НФ романа]](/books/339650/georgij-gurevich-nelinejnaya-fantastika-opyt-konstr-thumb.webp)