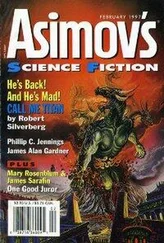Я впитывала объяснения Зиллиф о том, как прокторы приучались контролировать свою собственную необъективность в политике — не устранять ее (что невозможно), но выволакивать ее на поверхность, тащить за уши, а далее выступать «адвокатом дьявола» сначала одного убеждения, потом другого, затем третьего — так восхищенный ценитель обходит скульптуру, пытаясь увидеть ее со всех сторон. Прокторы также получали широкое научное образование: чтобы не погрязнуть в самонадеянном невежестве, они обучались истории, социологии, психологии, ксенологии, [5] Ксенолог (фант.) — от греч. «ксенос» — «чужой».
бухучету, динамике денежных средств и, конечно, точным наукам.
В эти дисциплины было тесно вплетено физическое совершенствование — организм, живущий одним только мозгом, обречен на инертную глупость в своей же области, усложняя простейшее в попытках поразить самого себя умственной мощью. Здоровые, ясно и трезво мыслящие люди знают, как выбраться из плена мозга и снова вселиться в свое тело. Поэтому члены «Неусыпного ока» обучались таким дисциплинам улумов, которые мы, люди, назвали бы йогой, цигун, медитацией, боевыми искусствами: гибкость тела сделает гибкой душу.
Боже, боже мой… слушая Зиллиф, я хотела гибкую душу. Я просто хотела душу, и точка. И во имя всех святых и Владычицы нашей Богоматери я хотела сделаться лучезарной. Яркой, словно священный огонь. Драгоценной. Значительной для значительных событий. Поразительной — до обморока и до дрожи, — полной смысла. Я хотела стать первооткрывателем панацеи от чумы; найти в развалинах иноземных дворцов сокровища, от которых напрочь захватывает дух; ослепить вселенную своей красотой, умом, талантами и мудростью; быть незабываемой, шикарной, умелой, сексапильной, счастливой и живой ...
Ближе к вечеру пятого дня Зиллиф больше не смогла говорить — язык, губы и челюсть обмякли в одно мгновение. На полуслове.
— Фэй Смоллвуд, почему ты всегда такая…
А потом жуткий булькающий звук, потому что горло все еще выталкивает голос, который нечем оформить в слова. Моя подруга Линн называла этот звук «нагрузка на пассивную увулу»… хотя увулы — маленькие язычки — отсутствовали в гортани улумов:
— А-а-а-а-а-а-а га-а-а га-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ха-ах ка-а-а-а-а-а-а-а-а…
«Фэй Смоллвуд, почему ты всегда такая а-а-а-а-а-а-а га-а-а га-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а ха-ах ка-а-а-а-а-а-а-а-а…»
Я нежно приложила пальцы к губам Зиллиф, останавливая ее. Каким неистово-жгуче-горестно-личным было это прикосновение. И до и после этого дня я прикасалась к Зиллиф повсюду, сверху и снизу, обмывая и протирая все уголки и складочки… но это все были только игры в сестру милосердия, просто механическая работа. Со мной навеки останется лишь это прикосновение — кончики моих пальцев на ее ослабевших безвольных губах — тс-с-с, все кончено.
Она больше не пыталась заговорить, больше не издавала хырчащих и фырчащих звуков. Я бы поцеловала ее, если бы у меня была хоть одна возможность получить ее разрешение. Но все пути были перекрыты: глаза, лицо, руки, голос — все онемело как под коркой льда, кроме сердца и легких.
В последующие дни я по-прежнему сидела с ней, когда мне выдавалась возможность… держала ее руку до тех пор, пока ее хрупкие пальцы не меняли цвет с белого цвета больничной постели на мой собственный легкий оттенок загара; но у меня язык не поворачивался много говорить самой. О чем я могла рассказать такой женщине? О погоде? О последних статистических данных, касавшихся умерших? Какие пустые бессмысленные мечты могли проноситься в голове девчонки из захолустья?
Странная, однако, штука: однажды ты чувствуешь, что блистаешь уже почти лучезарно, и тут же ясно понимаешь, что банален, как собачье дерьмо.
Когда я рассказала папе, что Зиллиф больше не может говорить, он повысил ее дозировку корицы. Я оплакивала тщетность усилий.
Зиллиф умерла ясным осенним утром, когда солнце величественно сияло в вышине, проникая сквозь испорченную влагой желтую ткань. Вам может показаться, что невелика разница между окоченевшим парализованным телом и трупом, но разница есть. Мгновение назад было утвердительное «да» жизни… а немного спустя это лишь груда бессмысленного мяса. Что-то ушло, что-то ушло, что-то ушло.
Три часа спустя мы нашли лекарство от болезни.
Оливковое масло. Настолько нелепо, что хотелось кричать. Позже я наревелась вдоволь… вдали, в истощенной выстуженной тундре, где мягкие природные ложа, устланные мшистым ковром, впивали в себя любой звук. Хладнокровная, спокойная, сильнее всех во вселенной Фэй Смоллвуд плакала навзрыд, уткнувшись в ладони, утирая нос рукавом, проливая слезы о том, что мир был жестче, чем она сама. Оливковое масло. Надоевшая, омерзительная на вкус липкая гадость. Пакость, которой в Саллисвит-Ривере ни одна семья не испортила бы свою еду.
Читать дальше
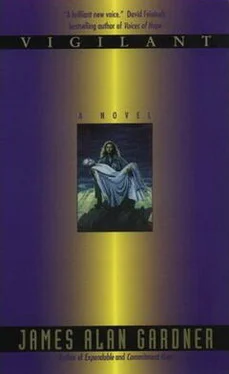





![Найо Марш - Всевидящее око [Чернее черного. Всевидящее око. Работа для гробовщика]](/books/85900/najo-marsh-vsevidyachee-oko-chernee-chernogo-vsevidyach-thumb.webp)