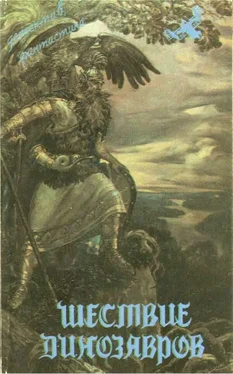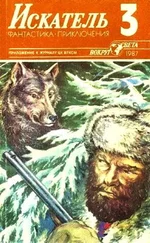И когда поразвеялся дым, взору Ходкевича открылся весь крутой склон, усеянный грудами поверженных тел. Гетман понял, что рискует потерять войско. Бессмысленно было вводить в бой рыцарскую конницу, для которой нужно открытое поле, где она могла бы развернуться и показать себя. А лифляндские немцы-наемники, брошенные на поддержку польской пехоте, замешкались у самого вала, не решаясь рисковать головой. Других резервов у Ходкевича не оставалось. Продолжать битву — понапрасну истязать себя.
Творя молитву, гетман внезапно вспомнил образ святого Франциска, созданный несравненным Луисом де Моралисом, полотно которого ему привелось видеть в Испании. С безумным исступлением, со слезами на глазах Франциск обцеловывал фигурку распятого на кресте Езуса, которую благоговейно держал в пробитых железными шипами ладонях. Великое самоотвержение во славу господа! Но Ходкевич сурово отогнал от себя видение: нелепо укреплять дух скорбящим Франциском. Богу угодно иное: отступив, сберечь войско и нарастить его, дабы потом без всякой пощады грозным посполитым рушением наказать поганых схизматов. Расчет на то, что они изнурены долгой осадой, что без Ляпунова не смогут сплотиться, был роковой ошибкой. И ее нужно исправить немедленно. Ходкевич велел трубить отбой.
В тот самый миг и выметнулась на поле ретивая конница Заруцкого. Атаман чутко уловил перелом в сражении. Явно в насмешку над хваленым рыцарством он нахлобучил на голову дерзкую магерку, ту самую шапку с пером, что была любима Баторием, и алый его кунтуш, в цвет польского знамени, заполыхал впереди, как пламя. Еще перед боем, не зная, чем он завершится, Заруцкий рассудил: ничто не утвердит его власть над ополчением — лишь отчаянная лютая отвага, в чем ему не было равных. Он либо все обрящет, либо все утратит. Либо разгром и посрамление Ходкевича, либо героическая смерть. Никакая середка его не утешит — он любил пить до дна, а ходить по краю. И удача вновь явила милость.
Уже изготовившись к, отходу, гусарские хоругви вынуждены были принять вызов. И пока основные силы, подчиняясь строгой воле гетмана, продолжали стягиваться, их прикрытие ринулось на казаков. Заруцкий быстро смекнул что к чему. И вместо того, чтобы схватиться в лоб, увлекаемые им конники резко уклонились в сторону и в мгновенье ока оказались за спинами разлетевшихся гусар, отрезав их от остального войска. Ловушка вышла на славу.
Не хватило времени опамятоваться гусарам. Их погнали, как стадо. Они пришпорили коней и пустились наутек, чтобы уйти от погони и успеть построиться для отпора. Но путь им преградила Яуза. Раскидывая копытами грязь, кони вязли в трясине заболоченного отлоя, судорожно вскидывались, сбрасывая седоков. Гусары рвали на себе застежки тяжелых доспехов, разметывали оружие и шлемы. Кое-кто пытался переплыть реку. И над замутившейся черной водой жалко трепыхались заплечные гусарские крылья — краса и отличие гордого рыцарства. Грязная топь поглотила многих, других добили казаки.
Обтерев мочальным пучком травы саблю и вогнав ее в ножны, спешенный Заруцкий снял с головы магерку, смял, бросил под ноги аргамака.
— Нехай сгинет!
В дружном гоготе казаков он распознал желанное одобрение. И только одно досаждало: как у Ходкевича не хватило сил разгромить коши, так и у ополченцев не доставало их, чтобы преследовать гетмана. Чаши весов качнулись и вновь встали ровно. До коих пор?
6
Захолодало. На голых ветвях деревьев дрожмя дрожат последние бурые клочки Листвы. А вся она мерзло гремит под ногами. Седые инеи густо обметали ее, прибили к земле блеклые травы. Далеко слышен конский топ. И все окрест словно распахнуто настежь — обнищавшей поздней осени уже нечего прятать.
В тесных земляных норах и переполненных приютных избах, черных от сажи и без потолков, с мутью волоковых оконец и сально лоснящейся грязью на столах и лавках, с кусачими блохами в умятой до трухи постельной соломе, стало непереносимо. Вынужденные для обогрева затапливать очаги, ополченцы задыхались в дыму, мучились от кашля, угорали. Скудная сухомятная еда тоже отвращала.
Встав поутру и не излив ни капли из пустого рукомойника — глиняного горшочка с носиком, висевшего на лыковой веревке, Ждан Болтин распахнул дверь и выскочил из спертой духоты на волю. Крутой сиверко пробрал до костей, мигом согнал сонную одурь.
Над соломенными да лубяными кровлями жалких пристанищ, перекошенными жердевыми огорожками, над избитой лошадиными копытами застылой комкастой грязью ополченского лагеря рваными полосами стлался дым разожженных печей. Ждан тоскливо вдохнул его горький запах.
Читать дальше