Она испугалась этой дали и, испугавшись, оглянулась. Кругом вертелась близкая бездна. Крылья, словно раскрытые от страха руки, ловили небо и землю. Небо было синее, как ужас, земля — зеленая, как смерть. Вероника взвизгнула, закрыла глаза. Руки поймали какую-то покачивающуюся опору перед собой. Она схватила ее, прижалась всем своим мягким переполненным телом, повисла.
Рычаг, соединенный с рычагом параллельного управления, выскользнул из-под руки Эрмия. Стрелка креномера, хохотнув, прыгнула за красную черту. Пилот обеими руками схватил штурвал, грубо рванул женщину. Аэроплан скользнул на крыло. Эрмий выключил моторы, закрыл доступ бензина. Самолет перешел в пикирующее падение, стремительно набирая скорость. Секунда — и он снова стал управляемым, полетел горизонтально, повинуясь рукам человека; но земля впереди вздулась холмом — творение Эрлика — под брюхом Варнемюндэ затрещали подкосы…
Стыд ударил по голове пилота тупым молотом.
— Позор-ааа-позор!!! — завыло в черепе. — Сломал шасси из-за бабы! Бабы!!.. На глазах у всего миир-р-аа!!!
Крылья «Варнемюндэ» — от толчка опустились, как у Ю13.
Кунь-Коргэн стоял на крыле, бил в бубен и кружился.
Вверху — лысое Небо, внизу — косматая Земля.
Круг и Костер.
Небо звенело, как синий колокол:
— Там-тум — там-тум…
— Черт-черт-черт! как трахнулся — раз чудится такое — такое!
Эрмий подошел к Шрэку, крикнул:
— Как хотите, как хотите: я сейчас же лечу домой! Надоело!..
Он даже не взглянул на дымное озеро Берлина (обманул репортеров и фотографов) и — шоферу в ухо:
— Бремен штрассе 9!
Бросился в лифт, толкнул мальчика.
Этажи. Пять.
— Наконец — наконец — наконец!
Жена обняла его, прижала… Ах, лучше — лучше всех этот поцелуй — как сестры.
— Я так устал — устал — да, совсем устал! Живешь, как солдат — нет своего угла. Вот получу приз — брошу летать.
Она подняла Риту, в голубом-голубом, словно голубой колокольчик.
— Па-па-па-па-па…
— Как хороша, как чудесно хороша жизнь!
Замерев от счастья, он прижал нежное личико к своим губам. Глазки ребенка черные-черные — папины.
Он стал смотреть в них — и — тихо-тихо — они закрыли его мир.
— Эх, русский! — сказал Шрэк.
Трупы лежали на траве, под брезентом. Старуха, жена сторожа ангара, обмыла их. Борт-механики, герр Грубе с киноаппаратом, и другие работали у опрокинутого самолета, в полуверсте от аэродрома. Пришел отряд красноармейцев, оцепили поле. Левберг доложил рассеянно.
— Оперение цело; верхние моторы целы. Кабинка пилотов и центральный мотор смяты. Разумеется — шасси.
Шрэк приподнял край брезента, заглянул в лицо мертвого. В уголке сизых губ осталась розовая пена. Лицо было прекрасным — призрачным, — прозрачным. Там плыли дымы, облака, звезды. Шрэку невольно вспомнились слова старинной музыки:
«Слава Небу, кризис кончен,
И опасность миновала:
Прошла лихорадка,
Называемая жизнью!» [5] Thank Heaven, the crisis The danger is past And the fever, called living, Is over at last. E. A. Poe .
.
Шрэк сказал:
— Фирме важно, чтобы прибыл аэроплан, а не авиатор. Сколько вам потребуется на ремонт? Я даю вам неделю. Не стесняйтесь в расходах. Снимите центральный мотор, сделайте перелет на двух остальных. Составьте подробный протокол. Это очень важно для конструктора. Я говорил: зачем эти носы у аэропланов?!.. Слепое подражание безмозглой голове!
Андрей Бронев бродил по безлюдному краю аэродрома. Нестягин шагал на плечо сзади, опустив голову, мучаясь больше всего придумыванием подходящих слов. Что тут скажешь?
— Старый дурак! старый дурак! старый дурак! — бормотал Бронев, смахивая внезапные, как смерть, слезы… — Не напились бы, ничего бы не было…
— Что вы, Андрей Платонович, при чем здесь выпивка?..
— Знаю… Сволочи! сволочи! сволочи!.. Все скажут, вот напились, а утром один разбился… С бабой… Сволочи. Сволочи. Сволочи.
Подошел Шрэк, сказал, приложив руку к шлему:
— Мой долг повелевает мне вылететь немедленно. Прошу вас распорядиться похоронами.
Бронев молча протянул руку. Тогда немец покачнулся, обнял его. Они сели на краю канавы. Молчали. Бронев пил…
Эрмия похоронили за фамильной зеленой оградкой. Андрей не знал, ставить ли брату крест. Андрей поставил обелиск. На вершине его, выше золотых надписей, утвердили четырехлопастный винт.
Были речи — музыка — венки. Очень чужая толпа, скользящие фразы. Бронев молчал. Погибших товарищей было много. Авиаторы гибли, сгорали в воздухе, спасались от верной смерти — в снежных великих горах, в снежные вьюги, — и умирали на аэродроме. Штегер разбился насмерть, под Москвой, задев за березу, в тумане. У Аниховского — на высоте 1500 метров — обломились крылья, и он остался жив, отделавшись сломанной ногой. Он умер в госпитале, от тифа. Вошь была страшнее бездны. И теперь — Андрей видел — вовсе не бездна унесла Эрмия. Вошь. Лицо авиатора было каменно и упрямо…
Читать дальше
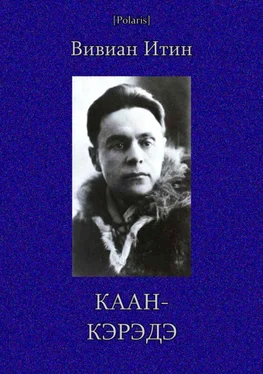
![Вивиан Итин - Урамбо [Избранные произведения. Том II]](/books/29691/vivian-itin-urambo-izbrannye-proizvedeniya-tom-ii-thumb.webp)
![Вивиан Итин - Страна Гонгури [Избранные произведения. Том I]](/books/29846/vivian-itin-strana-gonguri-izbrannye-proizvedeniya-thumb.webp)









