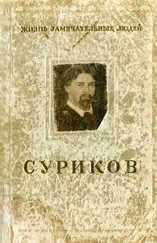В детстве двоюродная сестра олицетворяла собой мир, его доброту и душевную щедрость, она заменяла мне рано умершую мать.
Все это давно отделилось от меня, стало прошлым, но часто возвращалось в моих снах и возвращается сейчас, с удивительной точностью восстанавливая давно забытую квартирку и прекрасное лицо моей двоюродной сестры с большими глазами, полными иронической грусти и полунасмешливой ласки.
Но в эти часы, когда я переходил Биржевой мост и, пройдя мимо библиотеки Академии наук, сворачивал в переулок, который, как в будущих снах, куда более пластичных, чем зыбкие воспоминания, всякий раз приводил меня в тупичок, к обитой старой клеенкой двери, — но в эти часы я имел дело с реальностью, а не с ее отражением, казавшимся мне всегда конкретнее реальности.
Придя в квартиру, я заглядывал в овальное зеркало. Но зеркало не хотело признаваться в старом знакомстве и показывало мне не мое, а чужое, только притворявшееся моим лицом. Зеркало мстило мне за измену, за то, что, забрав плетенную из соломы корзинку, я переехал из доброй квартирки в недобрую и пока чужую мне Мытню.
Вещи тоже сердились на меня и всякий раз пытались потерять свое обличье, как потеряли его все предметы в Мытне, зарегистрированные в толстой инвентарной книге, с которой комендант общежития время от времени ходил по этажам и сличал написанное с существующим и наличным.
А вот эти вещи жили еще в Енисейске, в квартире, в которой тетя принимала ссыльных большевиков, а позже в Томске, и из Томска совершили путь на Васильевский остров, давно подружившись с моими привычками, в том числе с дурной привычкой ложиться на кушетку, не снимая обуви.
Тетя тоже держалась несколько отчужденно, по-видимому ревнуя меня к университету, где я оказался весь целиком, не оставив ничего здесь, в Тучковом переулке, кроме старых, уже никому не нужных школьных учебников.
И только большие добро-насмешливые глаза двоюродной сестры смотрели на меня с полным пониманием всего, что разыгрывалось в моем сознании, охмелевшем от своего студенчества, молодости и сильного желания не походить на самого себя.
Моя двоюродная сестра, с тех пор как я себя помню, олицетворяла для меня собой все самые прекрасные образы женщин, которые дарил мне мир книг. В моем воображении она превращалась то в мать Давида Копперфильда, то в тургеневских героинь, одновременно оставаясь собой.
Она была центром сначала домашней, уютной детской Вселенной, потом более обширного и менее определенного мира, пришедшего ко мне и наступившего вместе с юностью.
Я тогда еще не чувствовал и не понимал всей кратковременности и непрочности ее бытия, которое с приездом в Ленинград начал подтачивать туберкулез, тогда носивший более впечатляющее и менее научное название: чахотка.
В ее уме и характере была одна почти сказочная черта: она смотрела на все явления, поступки, факты, словно все было окутано свежестью утренних часов, приплывших в Ленинград из тех далей, в которых пряталось утраченное детство.
В эти годы мне чуточку приоткрылась одна из человеческих тайн — тайна живописи.
Еще в детстве, в окруженной гремящими реками и клокочущими ручьями полутунгусской деревушке, где не было картин, я увидел рисунки старого охотника Дароткана, открывшие моим изумленным глазам поэтическую суть местности, все, что от меня тщательно скрывала даль и близь.
И вот, приходя в Эрмитаж или в Русский музей, я погружался в стихию, сотканную из жизни, страсти и воображения, приносившую мне из прошлого живым и трепетным все, что не в силах было передать слово.
Эпохи набегали на эпохи, образы на образы, и я уносил их с собой каждый раз с таким чувством, словно после моего прихода там, на величественных стенах, остались пустые рамы.
Слово — это та волшебная дверь, с помощью которой я, минуя десятилетие, попадаю в мир Панкова.
Встреча с Панковым и его удивительным искусством произошла в художественной мастерской Института народов Севера, расположившегося в здании, где когда-то обитали монахи Александро-Невской лавры.
В эти годы я уже понимал, чем живопись отличается от всех других искусств, и в том числе от литературы. Живопись — это особая сфера, из которой изгнан случай и где вместо статистического случая царствует гармония.
Идя в Институт народов Севера, я не догадывался, что встречусь с гармонией не только в картинах, но и в душах тех, кто эти картины создал.
Панков вошел, и вместе с ним в комнату вошел мир: реки, озера и лес, заговорившие на ненецком языке.
Читать дальше