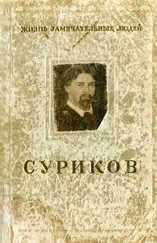Тысяча возможностей, из которых я не в силах выбрать ни одной.
Только что пришли купчики-близнецы в домик моего дяди — требовать карточный долг и, если сейчас же не отдаст, бить. С ними вместе пришел офицер-каппелевец с зелеными глазами и немецким акцентом. Но мой дядя увидел их в окно, когда они еще были на другой стороне улицы, и успел спрятаться в подполье.
Купчики входят в дом, тщательно вытерев подошвы сапог о половик в сенях, и офицер-каппелевец, бренча шпорами, переступает порог.
Дети встречают их у дверей.
Офицер-каппелевец снимает перчатки и говорит:
— Честные люди отдают свои долги. Дети, куда спрятался ваш отец?
И тогда младший, ему исполнилось четыре года, улыбается и отвечает:
— Я знаю, куда он спрятался, но не скажу.
— А если я тебе дам конфетку, — говорит ласково офицер, — ты, разумеется, мне покажешь?
Он вынимает из кармана своего френча конфетку в красивой обертке и подает ребенку.
В руке Дароткана кресало. К кремню Дароткан прикладывает кусок трута и бьет кресалом. Трут вспыхивает и издалека, из другого, давно забытого тысячелетия, приносит неповторимый запах. Дароткан кладет вспыхнувший трут в чашечку медной бурятской трубки и прижимает его пальцем.
Над трубкой, торчащей из широкого Даротканова рта, возникает синий дымок, пахнущий табаком и горящим трутом.
Из-за спины Дароткана на раскрытую тетрадь уже нетерпеливо заглядывает присутствующая здесь, но еще не нарисованная тайга.
Дароткан выпускает из раскрытого рта густую струйку дыма и начинает рисовать квадратным плотницким карандашом. В только что появившейся на белом листе бумаги стремительной горной реке уже плывет сшитая из облака и бересты лодка. На берегу — заря и громко хлопающие крылья с трудом поднявшей себя с лиственницы глухариной самки. Охотник не спеша гребет коротким веслом и курит трубку, точно такую же, как у Дароткана. Темные как ночь кедры, сосны, ели и светлые как день березы, обгоняя друг друга, карабкаются на отвесный, висящий над рекой хребет горы. Далеко на излучине реки, фыркая, плывет дикий олень.
Дом, приплывший сюда вместе с моим детством.
Ласточка, вьющая гнездо, только что принесла в клюве комочек влажной глинистой земли.
Во дворе встревоженные чем-то куры и петух, победоносно взмахивающий крыльями и трясущий большим сизым гребнем.
В углу дома сундук. Замок поет, мелодично звенит, когда бабушка или дедушка вставляют в скважину ключ и поворачивают его два раза.
В ящике хранится время. Там среди вещей прячется прошлое.
На крыльце стоит мой дед и, долго прицеливаясь в утреннюю звезду, наконец-то стреляет в нее из тяжелого «смит-вессона», вынутого из сундука.
Дед проверяет револьвер, чтобы он его не подвел в тайге, если нападет варнак.
Далеко-далеко его ждет река Ципа и ее приток Ципикан.
А еще есть Витим и Витимкан. Эти пахнущие снегом и беличьими шкурками названия дразнят мое воображение.
В тайге живет гора Икат, которую я видел в раннем детстве, когда ехал на волокушах, привязанных к хомуту спотыкающейся о камни и корни лошади.
Опрокинутые горы, отраженные в воде, снились мне, пока меня не разбудил своим выстрелом дед, стоящий на крыльце.
Сны с опрокинутыми горами еще здесь у изголовья кровати, но наспех обутые ноги уже несут меня на крыльцо. Над крыльцом мигает утренняя звезда, в которую так и не удалось попасть моему деду.
Столько вещей, названий, событий просят меня, чтобы я их вставил в фразу, одел в слово, написал на чистой, как поверхность реки, странице, найдя ритм, способный передать аритмию края, где воды падают с гор, а горы ходят на толстых медвежьих лапах.
Но вместо того чтобы писать об Ине, я пишу о Сене и о французском художнике-сюрреалисте.
Я еще не ведаю о том, что будущий рассказ напечатает в тридцать втором году толстый журнал «Звезда» и что О. Э. Мандельштам, остановив меня в столовой Ленкублита, спросит:
— Молодой человек, вы разве бывали в Париже?
— Нет, еще не бывал.
— Так зачем же вы пишете о французском художнике?
Я пишу рассказ, а рядом стоят мои соседи по комнате и дают советы.
Неприбранная комната с ржавым жестяным бидоном просится на страницу, которую я пишу.
Соскучившись по тишине, я иду навестить тетю и двоюродную сестру в Тучков переулок, № 1, в маленькую квартирку, где я жил до переезда в Мытню.
Сейчас я пишу об этом, пытаясь оторваться от «теперь» и попасть в «тогда», как будто мысль способна возвратить в прошлое и принести его сюда во всей его таинственной и волшебной неповторимости.
Читать дальше