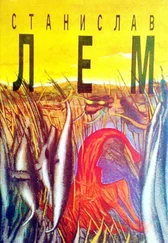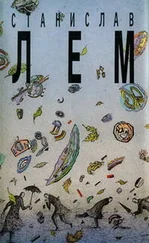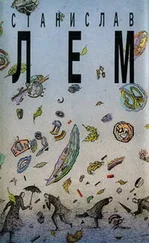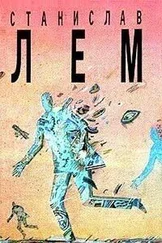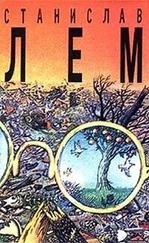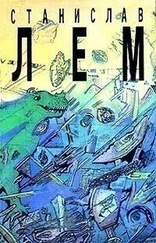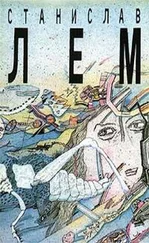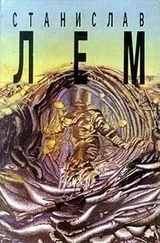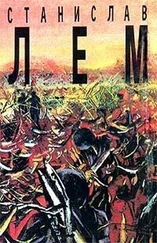— Эри,— спросил я,— хочешь пойти на пляж?
Она покачала головой. Мы стояли посредине самой большой, белой с золотом комнаты.
— А чего ты хочешь, может...
Я не успел закончить фразы, а она снова покачала головой.
Я уже представлял, как будут развиваться события. Но я уже бросил кости, игра должна продолжаться.
— Принесу вещи,— сказал я. Я ждал какого-нибудь ответа, но она села на зеленый, как трава, стул, и я понял, что она не произнесет ни слова.
Первый день был ужасен. Эри не делала ничего демонстративно, не избегала меня специально, а после обеда пыталась даже заниматься — я попросил разрешить мне остаться в ее комнате и смотреть на нее. Я обещал молчать и не мешать ей. Но уже через пятнадцать минут (какова проницательность!) я догадался, что мое присутствие тяготит ее, как невидимый камень, понял по линии ее плеч, по мелким, осторожным движениям, по скрытому напряжению. Обливаясь лотом, я убежал от нее, стал ходить взад-вперед по своей комнате. Я еще не знал ее. Но понимал уже, что она неглупа, может, даже умна. В сложившейся ситуации это было одновременно хорошо и плохо. Хорошо, так как если она не понимала, то догадывалась, что я на самом деле не варвар, не дикарь. Плохо, потому что если это так, то совет, данный мне в последний момент Олафом, бессмыслен. Он сказал мне афоризм, который я знал из книги Хона: «Женщина должна быть, как пламень, а мужчина — как лед». Он считал, что только ночью я смогу добиться своего. Я не хотел этого, ужасно страдал, ясно отдавая себе отчет в том, что за столь короткое время я не в силах убедить ее словами, они не дойдут до нее, не изменят ничего, хотя она сорвалась только раз, когда закричала: «Не хочу, не хочу!» Я воспринимал как плохой знак и то, что тогда она быстро справилась с собой.
Вечером ее обуял страх. Я старался быть тише воды, ниже травы, как Вув, невысокий пилот, самый большой молчун, какого я знал, который умел, не произнося ни слова, выразить и сделать все, что хотел. После ужина — она не ела ничего, и это привело меня в ужас — я ощутил, что начинаю злиться на нее за свои страдания, порой я даже ее ненавидел, и безграничная несправедливость этого чувства только усиливала его.
Наша первая настоящая ночь. Эри, все еще разгоряченная, уснула на моих руках, ее дыхание становилось все ровнее — она погружалась в глубокий сон. Тогда я был почти уверен, что победил. Она все время боролась, не со мной, а с собственным телом, которое я познавал, целуя тонкие ногти, маленькие пальцы, ладони, ступни ног, каждую ее частицу открывал и пробуждал к жизни поцелуем, проникая в нее — против ее воли — невероятно терпеливо и медленно, это проникновение было почти незаметно, а когда я чувствовал нарастающее сопротивление, воспринимаемое мною, как смерть, тогда отступал, то начинал нашептывать ей сумасшедшие, наивно-детские слова, то снова замолкал и только ласкал, нежно прикасался к ней, так продолжалось долго, я ощущал, как она раскрывается и как ее холодность сменяется дрожью последнего сопротивления, а потом она задрожала иначе, уже покоренная, но я продолжал ждать, теперь уже молча, ведь это было выше слов, различал в темноте ее загорелые плечи и груди, левую грудь, под ней билось сердце все быстрее и быстрее, дышала Эри все чаще, все отчаяннее, и случилось; это было даже не блаженство, а милость уничтожения и слияния, штурм до границы тел, и они резко на одно мгновение соединились в одно, наше тяжелое дыхание, наш жар перешли в беспамятство; она вскрикнула раз, слабо, высоким детским голосом и обняла меня. А потом опустила руки, потихоньку, словно от стыда и печали, будто вдруг поняла, как ужасно я провел ее и обманул. А я снова стал целовать сгибы ее пальцев, молча умолять, опять начал свое чувственное и ужасное наступление. И все повторилось, как в бредовом черном сне, и вдруг я почувствовал, как ее рука, погруженная в мои волосы, прижимает мое лицо к обнаженному плечу с такой силой, какой я не ожидал от Эри. А потом, смертельно уставшая, быстро дыша, как бы желая выдохнуть из себя накопившийся жар и неожиданный страх, она уснула. А я лежал, как мертвый, не шевелясь, напряженный до предела, стараясь понять, означает ли случившееся все или ничего. Когда я засыпал, мне показалось, что мы спасены, и только тогда успокоился, как на Керенее,— я лежал на горячих плитах потрескавшейся лавы рядом с Ардером, он был без сознания, но я видел его губы, быстро шевелящиеся за стеклом скафандра, и знал, что мои усилия не пропали даром, но у меня не было сил открыть ему кран резервного баллона; я лежал, словно парализованный, с сознанием, что самое большое дело жизни уже позади и если я умру, то ничего уже не изменится и мое оцепенение — невыразимое молчание триумфа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу