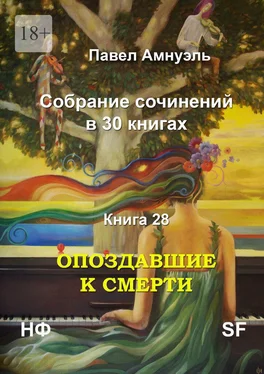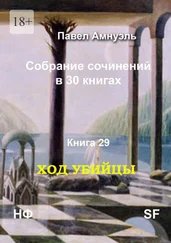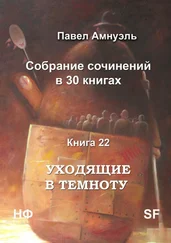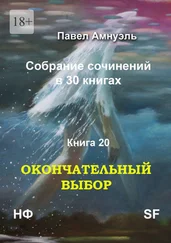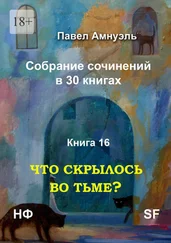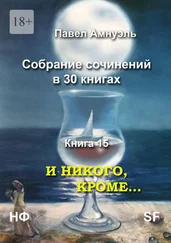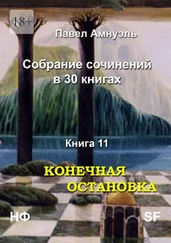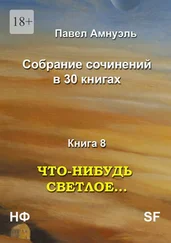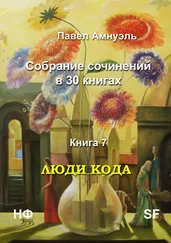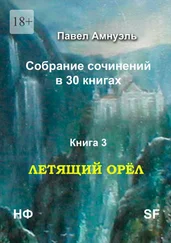И кстати, давали! Но даже сами литераторы были настолько прибиты стандартными определениями фантастики, что, написав нечто действительно фантастическое, но не научное (в смысле – не из области точных или технических наук), искренне считали себя авторами «большого потока». И критики – что еще важнее – тоже полагали именно так. Художественная литература исследует человека. А о железках пусть рассказывает научно-популярная литература. Человека же можно изучать по-разному, используя всякие литературные приемы и методы. Гротеск, например. Или иронию. Или юмор. Или – фантастику. То есть фантастика – это не более чем метод, используемый в художественной литературе. А метод нужно использовать тогда, когда это действительно необходимо. Когда автор иными средствами мысль свою выразить не может. Лев Толстой в «Анне Каренине» не нуждался в фантастическом методе и не использовал его. А Алексей Толстой в «Аэлите» нуждался именно в методе фантастики, чтобы описать свои представления о мировой революции и личности, способной такую революцию осуществить где угодно, хоть на Марсе.
В большинстве современных произведений, относящихся к фантастике, метод используется лишь для того, чтобы установить принадлежность к жанру. Метод вовсе не нужен, но предъявляется как знак, символ. Практически любое произведение современной фэнтези качественно не изменится, если драконов в нем заменить на сверхзвуковые истребители, а на место принцесс посадить вполне современных девушек.
В любом произведении должна присутствовать некая мысль, которую иными средствами выразить или невозможно или, по крайней мере, затруднительно. Фэнтези ближайшая родственница сказке и фольклору. Но настоящие сказки и фольклорные истории содержат идеи, адекватные используемому методу. Поэтому, когда мне говорят, что в фантастическом произведении автор, например, поднял «проблему совести», у меня возникает вопрос: почему для этого использован фантастический метод? Было ли это необходимо, стала ли проблема более острой? Или фантастику привлекли только для того, чтобы книгу было легче продать?
Маятник, качнувшийся в другую сторону, привел к странному парадоксу. Если раньше большая часть фантастов мечтала о том, чтобы их приняли наконец в цех «настоящих писателей», то сейчас кое-кто из «настоящих писателей» использует фантастику для того только, чтобы получить большую аудиторию. Общеизвестен пример, когда автор хороших исторических романов вынужден искусственно вводить в ткань повествования фантастические элементы, чтобы эти романы приобрели популярность, которую они и без фантастики заслуживали. Это именно тот случай, когда метод используется не по назначению.
Но лично мне кажется, что фантастика – не метод. Она глубже и шире. Генрих Альтов в свое время говорил, что если реалистическая литература – это человековедение, то настоящая фантастика – это мироведение. Цель реалистической литературы – человек. Цель литературы фантастической – мир, включающий человека в качестве составной части. И потому автор-фантаст непременно создает в своем воображении не только человеческие характеры, но и те миры, в которых персонажам предстоит действовать.
***
Новые миры создаются разными методами. Один из них – научный, другой – сказочный, третий совмещает оба этих способа. А можно вообще новые миры не придумывать, пользоваться теми, что уже кем-то созданы. Или – противоположный случай – придумывать не сами миры, а способы, с помощью которых можно эти миры придумывать. К примеру, «Машина времени» Герберта Уэллса – это способ создания принципиально новых миров. В этом же ряду идея параллельных пространств.
А вот многочисленные и однообразные волшебные миры – пример того, как фантасты уклоняются от серьезной работы. Это не осуждение: если нечто пользуется спросом, значит, оно нужно читателю, и спрос должен быть удовлетворен.
Но сказанное не означает, что исчезновение русской научной фантастики – естественный процесс. Называют несколько причин того, что за последнее десятилетие поджанр научно-технической фантастики практически перестал существовать. Одной из главных называют утрату веры в науку. Во времена Жюля Верна, а затем почти весь ХХ век мы были уверены в том, что наука может все, ей нет предела, и потому фантастика, в основе которой лежала именно наука, была читателями любима и пользовалась спросом.
Потом и здесь маятник качнулся в противоположную сторону. В науке разочаровались. Оказалось, наука – не только достижения, но еще и трагедии. Может, без науки человечеству было бы лучше? А без научной фантастики – тем более?
Читать дальше