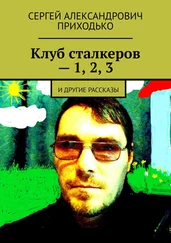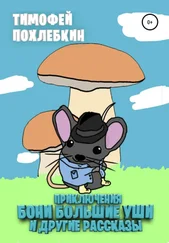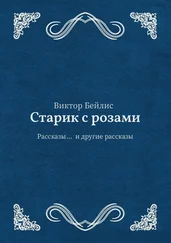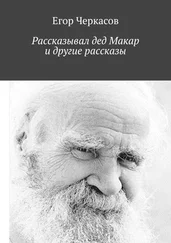«…Наехали на стараго станишники,
По нашему русскому — разбойники…».
Остается непонятным отличие Соловья-Разбойника от «станишников». Правда, он свистит по-соловьиному, но ведь и
«…Шипит да по-змеиному,
Кричит да по-звериному»,
«отчество же его „Рахманович“ производится от слова рахман или брахман, т. е. брамин — индийский жрец и кудесник. Иногда он называется и „Птицей Рахманной“ 1. Кроме того, „соловей сидит в гнезде на дубах, и его дом, где живет вся его семья, назван здесь гнездом. Дети Соловья тоже мифические личности; его дочери вещие, обладают богатырской силою; самое имя старшей из них, Невея, дается, в старинных заговорах на трясавицы, или лихорадки, старшей из сестер-трясавиц“ 25; сыновья Соловья оборачиваются в черных воронов, притом „с железными клювами“ 22.
Из дальнейшего изучения былин обнаруживается с еще большей ясностью, что образ Соловья-Разбойника, приближающийся скорее к типу колдуна чародея, очень далек от вышеупомянутых станишников-разбойников и представляет собою загадочную фигуру, недоступную для толкований исторической теории.
Окончательно беспомощной оказывается эта теория при попытках применения к драматическому развитию действия в былинах (напр., эпизод с женой Святогора, смерть Святогора в гробу и др.). Если даже в былинах о младших богатырях попадаются географические и исторические имена, то на проверку они все оказываются далекими от действительности. „Чернигов“, действительно, лежит на пути из Мурома в Киев», говорит Ф. Буслаев; в этом случае былина как будто заключает в себе исторический элемент. Но в других вариантах вместо Чернигова называют Бежегов, Бекетовец, Кидишь, Кряков и другие 1, и тот же Ф. Буслаев должен признать, что «здесь уже смешивается Чернигов с каким-нибудь другим городом» 11. То же можно сказать и о реках Сафате, Израе, Смородине и друг., о Латырь-море, о Фавор-горе, о князе Владимире, о княгине Апраксин и т. д. Уже А. Бороздин замечает, что в характере самого былинного князя Владимира, равно как и его супруги можно найти гораздо более «сказочных» черт, чем соответствующих исторической действительности 4. При внимательном изучении и сопоставлении географических и исторических имен, упоминаемых в былинах, возникает уверенность, все более укрепляющаяся и находящая себе подтверждение по мере изучения текста, что сказители брали для нужных им обозначений первые приходившие им на ум имена, пользуясь наиболее известными и популярными в силу их исторического или географического значения. Таким образом, хотя в былинах и нельзя отрицать наличия некоторого исторического элемента — подобно вышеупомянутому мифологическому налету, — но приложение к их истолкованию исторической теории, как таковой, в ея целом, должно быть столь же безоговорочно отвергнуто.
Теория иноземных заимствований базируется на неоспоримом сходстве между некоторыми типами и подвигами русских и иноземных богатырей. В силу того, что русский эпос является, сравнительно, самым молодым, не могло возникнуть сомнений в том, что он является субъектом, а не объектом заимствования, хотя «остается народной тайной, к которой и сам народ теперь не имеет ключа, каким образом Индийский Кришна и некоторые другие образы превратились потом в Добрыню и т. д.» 22.
Эта теория неоднократно подвергалась жестокой критике, находившей, что «замечаемое сходство в эпических сказаниях разных народов» может быть с успехом приписано не столько позднейшим заимствованиям, сколько доисторическому происхождению их из одного источника. А. Котляревский полагает, что «эти сказания (о русских богатырях) были плодом всей предыдущей жизни народа, лебединою песнью… неродного творчества, еще питавшегося соками старинного предания. Отделив в них все случайное, привнесенное последующими веками и образовавшееся под влиянием исторических обстоятельств, можно понять их настоящий характер: мы встретим здесь глубокую старину, еще не успевшую получить резкого характера исключительно русской народности, старину, прямо указывающую на доисторическую эпоху единства индоевропейских племен» 22. Для И. Порфирьева вышеуказанное сходство вытекает даже не из наличия общего первоисточника, а из «единства основных законов, лежащих в основе развития каждого народа». Ф. Буслаев придерживается того же взгляда: «общие всему человечеству законы логики и психологии, общие явления в быту семейном и практической жизни, наконец, общие пути в развитии культуры, естественно, должны были отразиться и одинаковыми способами понимать явления жизни и одинаково выражать их в мифе, сказке, предании, притче, пословице» 24.
Читать дальше
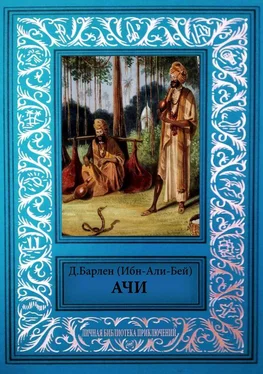

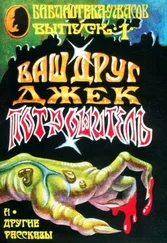
![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)
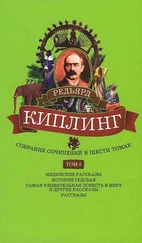
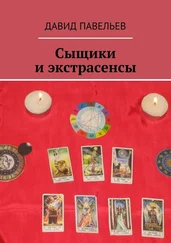

![Мэтью Шилл - Бледная обезьяна и другие рассказы [Собрание рассказов, Том II]](/books/412441/metyu-shill-blednaya-obezyana-i-drugie-rasskazy-sob-thumb.webp)