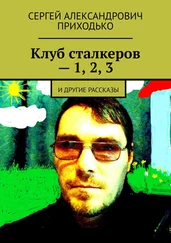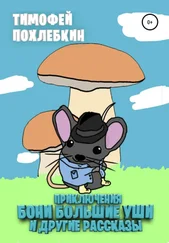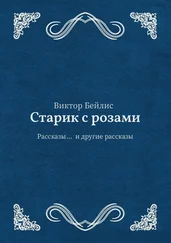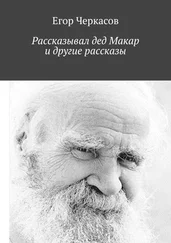Можно считать установленным, что «хранителями этого чудного наследия старины являются исключительно крестьяне; высшие классы уже в XVIII в. порвали свою связь с народным эпосом и утратили к нему живой интерес» 3. Особенно замечательно, что «зовут их слепцами, хотя бы они были совершенно зрячие: явное указание, что это остаток древних слепых Калик Перехожих 8, равно как и то, что лишь самая незначительная часть певцов грамотна» 1. Это обстоятельство, особенно в связи с тем, что былины нигде не записывались, не могло, конечно, содействовать сохранению былин в чистом виде. Хотя «исполнитель не должен был вовсе стремиться к оригинальности, а, напротив, должен был ставить традиционность, как одно из непременных условий своего замысла» 4 и, хотя «крестьяне были только хранителями старины в былевой поэзии, но не развивали ее новыми сюжетами» 2 — все же «народная поэзия оттого неустойчива, что иною не могла удержать ее человеческая память, иною не могло сохранить ее и лелеять дальше сознание безкнижного и бесписьменного народа» 4. Поэтому, вполне естественно, что «при передаче подобного произведения многое в нем переделывалось и изменялось, многое применялось к известным условиям быта; но оно становилось известно всем, и, передаваясь из поколения в поколение, переживало века» 5.
Подобного же мнения придерживается и А. Пыпин. «Ни древность былин, ни древность богатырей не подлежит сомнению. Другой вопрос, в каком виде эта древность дошла до нашего времени. Она, без сомнения, в течение веков сильно подновлена по форме и содержанию эпоса, по самим характерам и историям богатырей, — но в том и другом должна была уцелеть на дне древняя основа, послужившая для дальнейших наслоений и видоизменений, — эти последние нередко до сих пор очевидны для наблюдения» 12. Или в другом месте: «Внешние судьбы народной поэзии, изгнание ея из книги, отсутствие записей, имели то следствие, что в настоящее время мы имеем перед собой только сравнительно позднюю форму народно-поэтического предания, — а именно, хотя в современной песне уцелели нередко отголоски весьма далекой древности, но, с другой стороны, мы не имеем и того, что знал еще, напр., XVIII век… На народной песне отразились разнообразные влияния, более или менее глубоко, или поверхностно касавшиеся целой судьбы народа — внешние и внутренние политические события, изменения хозяйственного быта, народно-бытовое действие церкви, школы и книжности, международные встречи и т. д.» 12.
К этому мнению А. Пыпина присоединяется И. Порфирьев. «Т. к. произведения народной словесности весьма долго оставались незаписанными, то, очень естественно, многие из них совершенно утратились, а сохранившиеся подверглись порче и искажению. Передаваемые устно от одного поколения к другому людьми, незнакомыми с образованием, они дошли до нас с разными ошибками и разными изменениями и дополнениями, какие они получили в разные времена при переходе от одних людей к другим. В них много анахронизмов или смешения разных эпох, лиц и событий».
Кроме этих искажений, оправданных в известной мере самим характером исполнения и передачи былин, необходимо учесть ряд изменений, сознательно или бессознательно внесенных в них собирателями. «В своем собрании песен Чулков поместил произведения народной поэзии рядом с песнями разных стихотворцев», указывает А. Бороздин 4, причем не стеснялся вносить поправки в текст народно поэтических созданий, как это видно из следующих слов его «Предуведомления»: «Сколько я трудился в собрании сих песен, о том ведают те люди, которым известны безграмотные писцы наши, кои пишут, а что пишут, того не разумеют. Их неискусство находил я почти во всякой песне, так что инде ни стиха, ни рифмы, ниже мысли узнать мне было не можно; да я чаю, что они и сами растолковать бы мне не умели; для того принужден был употреблять догадку». — «Таких „догадок“ или, вернее, произвольных исправлений без всяких оговорок», продолжает А. Бороздин, «было особенно много в „Русских сказках“ [10] «Русская сказки, содержащая древнейшие повествования о славных богатырях».
, которые часто представляются самостоятельным переложением Чуйкова».
«Ещё более произвола обнаружил сотрудник Чуйкова, Михаил Попов, составивший сборник „Российская Эрата, или выбор наилучших новейших российских песен“, вышедший в свет в 1792 г. Перемешав всевозможные старые и новые песни, Попов откровенно объяснял: „Со старинными песнями поступал я таким образом: по учинении оным из преогромные стаи очень малого выбора, потщался в некоторых исправить не токмо разногласие и меру во стихах, но и переставлял оные в иных с одного места на другое, дабы связь их течения и смысла через то сделать плавнейшею и естественнейшею, чего в некоторых из них недоставало“» 7.
Читать дальше
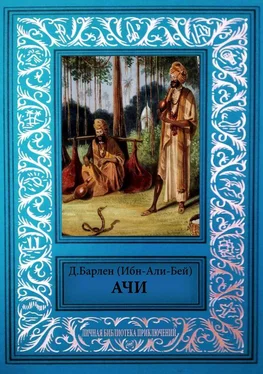

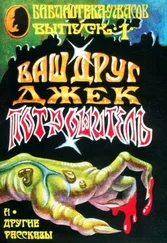
![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](/books/182445/elza-morante-andaluzskaya-shal-i-drugie-rasskazy-thumb.webp)
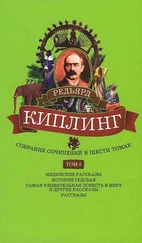
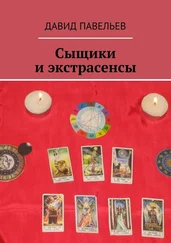

![Мэтью Шилл - Бледная обезьяна и другие рассказы [Собрание рассказов, Том II]](/books/412441/metyu-shill-blednaya-obezyana-i-drugie-rasskazy-sob-thumb.webp)