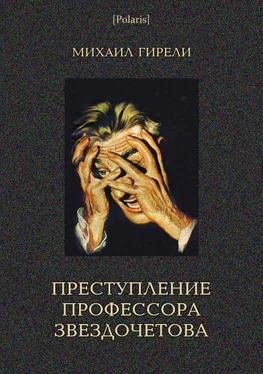Софья Николаевна зажигала маленькую спиртовую лампочку под блестящим стерилизатором.
Она сперва промолчала, потом ответила сухо и скучно на первую половину профессорской фразы:
— В мире не стало бы светлее от моей улыбки!
— Почему, мой друг?
— У каждого своя жизнь, Николай Иванович. Каждый живет и мыслит по-своему и каждый по-своему лжет, конечно.
Ее мысли страшно совпали с мыслями Звездочетова, начавшего уже думать о другом, и это удивило его. Он думал: «А ведь вот эта замкнутая, совершенно бесстрастная и холодная женщина сказала сейчас вещь, характеризующую ее огромный, скрытый темперамент, который ничем не проявляется, в ней, и следовательно, она лжет так же, как и те, кого она обвиняет во лжи.
Да, жизнь течет, все меняется, все проходит, но все то, что меняется и проходит, меняется и проходит по-своему, по какому-то непонятному шаблону, не соприкасаясь своим тайным значением со значением рядом, параллельно ему текущего явления.
Все мы говорим на разных языках, полагая, что изобрели какой-то язык эсперанто. Как могу я, будучи самим собою, понять хотя бы вот эту, стоящую рядом со мною, женщину? Способна ли она на любовь, на жертву? Знает ли она мужчину? Отдавалась ли она ему?
Только проникнув собою в нее, я смогу ответить на эти вопросы…»
— Это верно, — вздохнув, ответил Звездочетов Софье Николаевне.
А Софья Николаевна думала в свою очередь: «Вот этот волшебник мысли, господин воли и внушения, вот он, знающий, что знает многое, не знает такой близкой, такой постоянной, касающейся ею эмоции, заключенной во мне: «Я люблю тебя, я люблю тебя!»
Люди не понимают друг друга — не могут понять, но… теперь — или никогда.
Вот я раскладываю инструменты и в каждом пинцете вижу отблеск дорогого лица, а это дорогое лицо думает, что я занята приготовлением к приему совершенно мне безразличных больных…
Спрошенный о состоянии своего здоровья полагает, что вопрошающей интересуется этим его здоровьем и подробно, ухватившись за пуговицу пиджака полюбопытствовавшего неудачника, брызжа ему в лицо слюною, длинно повествует о том, как у него вчера варил желудок, в то время как со вниманием выслушивающий его желудочную исповедь собеседник тоскливо думает: «У-у, проклятый, чтоб у тебя разорвался бы твой проклятый желудок, мне-то до него какое дело!» Ложь! Она всюду, но… сердце отчетливо отчеканило в груди: «Теперь или никогда, теперь или никогда»…»
Звездочетов, как бы слыша мысли Софьи Николаевны, перебил их восклицанием:
— Лгут или просто не могут понять друг друга?
Совпадение этого вопроса с мыслями Софьи Николаевны получилось потому только, что оба думали аналогично.
Но Софья Николаевна вздрогнула от этого совпадения.
— Не все ли равно? — с удивлением глядя на Звездочетова, спросила она.
— Для результата это, конечно, безразлично, но не для оценки…
— Какая же может быть оценка другого, когда самих себя мы оценить не можем? Либо недооцениваем, либо переоцениваем.
— Вы, Софья Николаевна, что-то философски настроены сегодня!
— Может быть, — а сердце тяжело ухнуло: теперь.
Внезапно она повернулась к Звездочетову и, громко воскликнув: —Я не могу больше так, господи! — решительно подошла к профессору и упала, закрывая лицо руками, перед ним на колени.
— Я люблю вас…
Звездочетов остолбенел.
Но он своим сильно развитым подсознанием понимал, что кризис в душе этой женщины миновал, что она твердо решилась на свой шаг и сейчас скажет ему все, все то, что так долго таила в себе, без стыда, без предисловий, как должное, как единственную правду, на которую способен человек.
Профессор, поняв это, не растерялся, ласково нагнулся к упавшей перед ним на колени женщине, поднял ее с пола и, прижимая к себе, интуитивно чувствуя, что эта внезапная близость приятна им обоим, усадил ее на диван рядом с собою. И, как опытный врач не только тела, но и духа, ни единым словом, ни единым жестом не перебил путавшуюся и красневшую, сжимавшую его руки в своих, возбужденную Софью Николаевну, в ее исповеди к нему, продолжавшейся довольно продолжительное время, ибо Софья Николаевна поведала ему действительно все. Всю свою жизнь. И он знал, что она должна была все это сказать и нисколько не удивлялся слушаемому. Да. Всю свою жизнь поведала Софья Николаевна, всю муку свою и тоску; всю неудовлетворенность своего пребывания среди дурно пахнущих кусков человеческого мяса, полное отсутствие своей воли, отдавание себя студентам и ординаторам без всякого чувства плоти, ради того только, чтобы в объятиях другого мысленно представлять себе его объятия, и, наконец, свой сегодняшний разговор с обеспокоенным Пановым и ее твердое, принятое ею после этого разговора решение открыть всю правду своему богу, ему, Звездочетову, и отдать себя и свою жизнь в его полное распоряжение и неотъемлемую собственность, если только, о, если только он не совсем отвергнет ее.
Читать дальше