Последовало быстрое чередование высоких сигналов, вызывающее в памяти электрическую музыку из поездов. Ана представляла себе колебания маятника, удары которого обращаются в звон, и при этом ритм с каждой секундой усиливается, маятник звучит всё пронзительней, с нарастающим раздражением, пока вдруг не замолкает, резко, как оборванный крик.
Ана даже проверила, работает ли ещё гуптика.
В наушниках послышался тусклый шорох, шум осыпающегося с барханов песка, от которого стало спокойно и тепло – захотелось откинуться на спинку кресла, глубоко вздохнуть, расслабиться, закрыть глаза.
Сквозь шелест ветра пробился судорожный и высокий голос. Это походило на старинную песню, испорченную помехами так, что Ана не могла разобрать ни слова. Голос вздрагивал, растворялся в окружающем его шуме или срывался на пронзительный фальцет, точно кто-то пытался перекричать вой надвигающейся бури.
А потом проигрыватель остановился.
Ана долго сидела, уставившись на гуптику. Ей вдруг пришла в голову мысль, что число на кассете – это бессмысленный набор случайных цифр, вроде того, который выдают машины для предсказаний на основе радиопомех.
Запись испорчена.
Наверное, она размагнитилась. Нив взял домой старую никому не нужную плёнку на случай. И ей он не сказал, потому что такая мелочь не стоила упоминания.
Или же это одна из тех искажённых радиопередач, расшифровкой которых занималось бюро. Нив зачем-то притащил её домой, нарушив десятки правил, и спрятал в столе, надеясь когда-нибудь разгадать потерянное в песках послание, хотя у них не было даже проигрывателя.
Но нет, это совсем не имело смысла.
Сад предупреждал о том, что гуптика не очень хорошо работает. Наверняка ей не пользовались уже несколько лет. Может, она даже испортила запись.
Ана вздрогнула, содрала со штекеров кассету и быстро промотала плёнку вручную, но не нашла никаких повреждений.
Она поставила кассету на место.
Это и есть запись, которую Нив по непонятным причинам прятал от неё в столе. Странный шорох, молчание, нервная ритмичная музыка и чей-то высокий голос.
Ана прослушала плёнку пять раз подряд и вдруг почувствовала, что её собственное дыхание подчиняется звучащему в наушниках рваному ритму. Это чувство было несложно спутать с началом приступа, но она совсем не испытывала страха.
Ана сняла тяжёлые наушники и помассировала виски. Постаралась дышать глубоко и ровно, по советам врачей, но это не помогало. Она ощущала странный пульсирующий ритм во всём теле – с каждым вздохом, каждым мгновением. Даже тесный кабинет, ровные стыки выбеленных стен, идеальная плоскость потолка – все эти параллельные поверхности, пересекающиеся прямые – стали продолжением той сложной ритмической закономерности, которая таилась на магнитной плёнке.
Запись уже не была бессмысленным хаосом из радиопомех.
Ана неосознанно, интуитивно понимала её – как речь на чужом языке, в котором не разбираешь ни слова, но в самих интонациях, в придыхании, в повисающих паузах между фразами, во время которых говорящий делает глубокий вдох, даже в звенящих окончаниях слов ощущаешь некую тень, ускользающий призрак смысла.
Ана надела наушники и поставила ленту на перемотку. Дышать было тяжело, словно теперь ей даже в помещении требовалась маска.
Гуптика щёлкнула – запись готова к прослушиванию. Ана неуверенно нажала на затёртую, сохранившую отпечатки тысяч прикосновений кнопку, и в наушниках разлилась глубокая осмысленная тишина.
Лентопротяжный механизм чуть слышно поскрипывал, и гуптика часто вибрировала от напряжения. Ане показалось, что в комнате мигнул свет.
Вернувшись вечером домой, она спрятала кассету в стол. И подумала, что лучше бы никогда её не находила. Вечером ей не хотелось слушать радио. Не хотелось спать. Не хотелось выходить из дома. Она стала готовить себе ужин, хотя от одной мысли о еде её мутило.
Утром следующего дня её стошнило после укола.
Ана ненавидела уколы, с которых начинался каждый её день. Она старалась подготовиться заранее – многоразовый шприц с заправленной ампулой ещё с вечера лежал на тумбочке у постели, – но было так трудно заставить себя встать, зная, что тебя ждёт лишь очередной укол, после которого весь день болит голова, а есть приходится через силу.
Но после того, как к ней переехал Нив, утренние уколы перестали быть мучением.
Всё теперь делал он.
У него отлично получалось, он умело обращался со шприцом, и Ана порой не успевала ничего почувствовать – ещё не проснувшись, ещё не восстановив ту тонкую связь с реальностью, которая отличает бодрствование от сна. Это и был их странный ритуал пробуждения. После него сон окончательно отступал, и начиналось светлое пустынное утро – с поцелуя и лёгкой тошноты от внутривенных лекарств.
Читать дальше
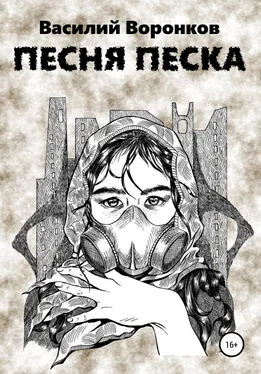


![Василий Воронков - Песня песка [litres]](/books/403592/vasilij-voronkov-pesnya-peska-litres-thumb.webp)
![Василий Воронков - Синдром отторжения [litres]](/books/408189/vasilij-voronkov-sindrom-ottorzheniya-litres-thumb.webp)







