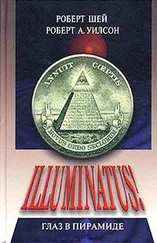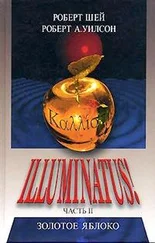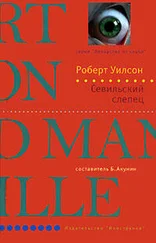Все это не сблизило нас с отцом. Наоборот. Он сопротивлялся диагнозу почти так же яростно, как и она, но отрицал очевидное с гораздо большей прямотой. Думаю, он всегда считал их брак неравным, словно сделал одолжение нью-гемпширской семье моей матери, предложив руку их угрюмой и нелюдимой дочери. Возможно, вообразил себе, что замужество изменит ее к лучшему. Однако этого не произошло. То ли она его разочаровала, то ли, наоборот, он ее. Но он продолжал предъявлять к ней самые высокие требования, стыдя ее за все необдуманные поступки, словно она могла рассуждать этично и нравственно. Она могла , но лишь изредка.
Выходило, что хорошая мать страдала за грехи плохой. Плохая позволяла себе резкости и непристойности, а хорошую можно было запугивать и терроризировать. Хорошую легко было заставить затравленно извиняться, что отец постоянно и проделывал. Он кричал на нее, иногда бил и без конца унижал, пока я прятался в своей комнате, пытаясь представить мир, в который мы с хорошей мамой смогли бы сбежать и от него, и от захватчицы – псевдомамы. «Мы бы здорово зажили, – твердил я себе, – в каком-нибудь милом домике, каким она когда-то пыталась сделать наш дом, а в это время отец воевал бы со своей чокнутой фальшивой женой где-нибудь подальше, в изоляции от всех. Например, в тюрьме. Или в дурдоме».
Позже, когда мне исполнилось шестнадцать и я научился водить машину, но до того как мать поместили в дом-интернат в Коннектикуте, где она провела свои последние годы, отец повез нас всех в Нью-Йорк. Думаю, он верил – и, должно быть, отчаянно хватался за эту хрупкую соломинку – что отпуск пойдет ей на пользу. «Очистит голову», как он любил повторять. Так что мы загрузили машину, поменяли масло, заправили полный бак и пустились в путь, как суровые паломники. Мать убедила уступить ей заднее сиденье. Я сидел впереди в роли штурмана, изредка оборачиваясь к ней и упрашивая, чтобы она перестала расковыривать губы, которые уже начали кровоточить.
От выходных в Нью-Йорке у меня остались только два ярких воспоминания.
В субботу мы посетили статую Свободы, и мысленно я практически до сих пор могу пересчитать полированные ступени, по которым мы забирались наверх. Помню ощущение ничтожности и одновременно величия, охватившее меня наверху, запахи пота и горячей меди в безветренном июльском воздухе. Мама отшатнулась от вида Манхэттена и тихо причитала, пока я завороженно наблюдал за чайками, ныряющими в морскую гладь. Из этого путешествия я привез латунную модель Свободы размером с мою руку.
Я помню то воскресное утро, когда мама ушла из гостиничного номера, пока отец был в душе, а я в холле кидал четвертаки в автомат с газировкой. Когда я вернулся и обнаружил, что в номере никого нет, то запаниковал, но не смог заставить себя потревожить отца в ванной, ведь, наверное, он обвинил бы меня (или я так думал) в том, что я недоглядел. Вместо этого я прошелся туда и обратно по коридору, устланному красным ковром, мимо столиков с заказанными в номера завтраками и тележек с белоснежным бельем, а затем спустился на лифте в вестибюль. Я заметил темные волосы моей матери – она удалялась через холл и исчезла во вращающихся дверях. Я не окликнул ее по имени, побоявшись встревожить и смутить посторонних людей, а побежал следом, едва не споткнувшись о газетную стойку перед сувенирной лавкой. Но к тому моменту, когда, толкнув стеклянную дверь, я выскочил на тротуар, мамы нигде не было. Швейцар в красной ливрее дул в своей свисток, но я не понимал зачем, пока не увидел маму, которая лежала, вытянувшись, на обочине дороги и тихо стонала, а водитель цветочного фургона, только что сломавшего маме ноги, выпрыгнул из кабины и стоял над ней, весь дрожа, глаза у него были круглые, как две полные луны. Единственное, что я почувствовал, это лишь зверский ледяной холод.
После поездки в Нью-Йорк мать отправили в заведение, предоставлявшее долгосрочный уход, – когда ноги уже срослись и докторам пришлось накачать ее галоперидолом, чтобы снять весь гипс.
Гостиная, где сидели мы с отцом, на удивление мало изменилась с тех пор. Не то чтобы он старался сохранить дом прежним, словно храм своей жене. Он просто ничего не менял. Ему это и в голову не приходило.
– Кто только не звонил и не спрашивал о тебе! – проговорил он. – Я даже подумал, что ты ограбил банк.
Шторы были задернуты. Этот дом был из тех, где, несмотря ни на что, всегда мало света. Как бы ни старался старенький торшер разогнать сумрак.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу