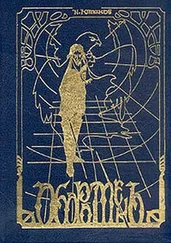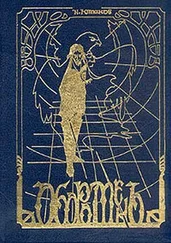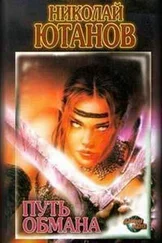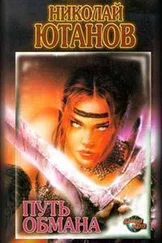— Я собираюсь… — голос у мальчишки вдруг предательски сел.
Алим прокашлялся и отчеканил:
— Я собираюсь пробраться в княжескую книжницу.
Повисла такая тишина — впору ломтями резать.
Сова недобро усмехнулся:
— Ты что же, в здравом уме предлагаешь нам совершить налёт на Кремль?
Есть
Рахмет присовокупил и своё слово:
— У мальца не сквозняк в голове. Чертежи есть, подход-отход продуманы. Умельцы нужны. Навроде нас… Разбой дельный. Но срок — сегодня. Встать и пойти.
Сыч почесал седую небритую щёку:
— Ежели все идут, так и я с вами. Куда ж вам без листвяного в таком деле?
Дрозд долго молчал, выписывая пальцем на столе какие-то теневые знаки. Потом кивнул.
Сова посмотрел на Алима:
— Ты теперь в нашей ватаге, парень. Какой птицей себя видишь?
Селезень покачал головой:
— Со всем уважением, Соловей… Передышку бы сделать. На залихвате можно и в ощип влететь. Подельника твоего нового мы не знаем, не наш он. Извини, поостерегусь. Ни пуха ни пера вам не потерять, братцы!
И вышел прочь. Сова поспешил за ним, а вернувшись, положил на стол разломанное перо и подсумок коренного.
Выдвинулись ближе к вечеру. Извозчика взяли из местных, Сова высвистал.
На выезде из Бутырских переулочков на Клинскую-Ямскую дотошный дружинник-угловой проверил, не дыряв ли у лошади мешок под хвостом — на трактах княжественного значения за навозную кучу посреди мостовой досталось бы в первую очередь дружине.
На Клинской было тесно. Зычно ржали ломовые. Тонкоосные пролётки норовили выскочить в крайний левый, перекрывали дорогу самоходкам, пыхающим сизым дымом. Служебные «воронки» и щеголеватые «легковески» с дворянскими опознавательными знаками взбулькивали котлами, лавировали между телегами, жались друг другу в хвост — сумятица!
Напротив Городской думы застыли в камне две фигуры — память о смертном бое Блаженного-в-Тени первокнязя Стефана Кучко и пришлого Юрия, прозванного Долгой Рукой. Стефан словно загородил от супостата город за своей спиной. Пальцы распростертых первокняжьих рук плели ветер. Резчик умело показал, как легла трава там, где прошёл воздушный хлыст теневого. Конь под Юрием, пуча глаза, заваливался набок, а финист Стефана впился вражьему богатырю когтями в лицо, лишая воли и разума.
Над пролёткой чёрной тучкой сгустилось беспокойство. Никто из ватаги не чувствовал себя в своей тарелке. Сова теребил в кармане кафтана скорострел. Сыч, плотно сжав губы, смотрел под ноги, на сумку с запалами. Зажатый между ними Алим, закрыв глаза, что-то шептал, едва шевеля губами. Дрозд постукивал по коленке кончиками тонких холёных пальцев. У Рахмета заныла рана на шее — будто Евпатова птичка напомнила о себе.
Чёрная громада кремлёвской стены высилась над крышами Подола. Двуглавые финисты распростёрли над башнями чугунные крылья. Там и тут в узких прорезях бойниц мелькали тени стрельцов. Лучшие знахари из коренных двести лет растили Кремль из жидкой древесины. Искуснейшие умельцы листвяных врезали в пятисаженную толщу стен ворота, решётки, подъёмные мосты и неподъёмные противовесы. Могущественные колдуны Тени заговорили дерево стен и железо ворот от любой напасти. Кремль — воплощение могущества княжеской власти, чёрное сердце мира — дремал сытым чудовищем, вполглаза.
Извозчика отпустили у Боровицкой башни. Переходя через ров, Рахмет украдкой бросил за поручень моста медную княжку, хоть и презирал суеверия.
Стараясь придать себе вид независимый и праздный, миновали длинную тёмную нору в крепостной стене и слились с толпой гуляющих.
На зелёных лужайках резвились дети. Катали кольца, запускали змеев, играли в салочки да цепи. Взрослые располагались на широких лавочках — с новостными свитками, книгами, вязанием, неспешно прогуливались по утоптанным щебневым дорожкам, топтались у тележек-ледничков в очереди за мороженым или пивом.
По родителям сразу видно, кто какого рода, подумал Рахмет. А вот мелюзга — все одинаковые, ни листвы, ни тени не разглядеть.
Ближе к Соборной площади из разнонаправленной толпы выделился поток пожилых людей, идущих к вечерне. Старушки несли в платочках кто яичко, кто ломтик мяса, кто краюху хлеба — подношения для исполнения незатейливых желаний, скромное подкрепление молитве.
На площади людской поток снова распадался на несколько рукавов. Кого-то затягивали распахнутые врата Мокоши-Милостивицы, кто-то спешил в витую башню Даждьбога. Золотым ликом-маковкой, щерящимся на восход, высился над остальными храм Перуна-Вседержца.
Читать дальше