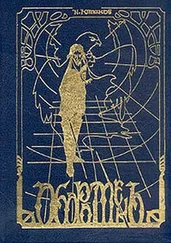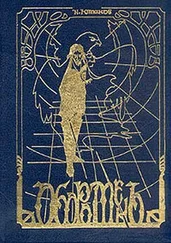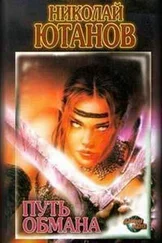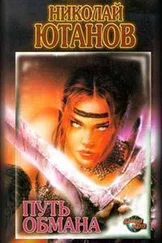Уже в сумерках он добрался до Сущевки и долго ломился в дверь Служебного училища для детей древляного рода.
На стук приплелась глуховатая сторожиха Матрена, внимательно рассмотрела Рахмета в глазок, зазвенела цепочкой:
— Чтой-то вы припозднимшись нынче, господин учитель?
Темные пространства дышали недавним детским гомоном, суетой перемен, сухим порядком урочного времени. Взяв у Матрены ключ, Рахмет поднялся по лестнице в учительскую.
Поспешив к своему столу, он едва не своротил набок деревянное мироподобие, выпуклой тарелкой застывшее посреди прохода. За время отсутствия учителя его подопечные с художественного отделения построили по границе мира Великий Плетень из мятой стеклянной бумаги, окрасили черным угольные отвалы в крае Шатурском, надписали названия поселений в крае Клинском, собранных из поджиговых коробков.
Со дна нижнего ящика, из-под груды непроверенных работ, Рахмет извлек небольшой тяжелый сверток. Все оказалось на месте — три серебряные палочки в палец толщиной — нерубленые гривни с оттиском дома Мрило, и два удостоверения личности, «ульки», на Кирьяна Фадеевича и Аграфену Ратиборовну Коротаевых, супружескую пару древляного рода.
С вешалки в углу снял служебный кафтан, надел, схоронил сверток во внутренний карман, и уже собирался идти, когда за дверью послышались шаги, и на пороге встала сутулая тень.
Глаголь
— Добрый вечер, Никодим Добрынин!
— Ко-ро-та-ев! — брезгливо произнес по слогам начальник училища, цаплей вышагивая навстречу Рахмету. — Вы без спросу пропустили два урока, мы даже не успели подобрать замену. Что за орда? Извольте объясниться.
«Кривда на кривду», — подумал Рахмет, выдумывая очередную небылицу.
— Обобрали меня, Никодим Добрынин, — покаянно сказал он. — Тюкнули по затылку в переулке, платье стянули, а с ним и рублевая заемка ушла, и мелочи горсть. Хорошо, добрые люди не дали замерзнуть, озолоти их Велес.
— Да уж чую, как не дали! Совсем за место не держитесь?! Пьяным заявиться в училище — постыдились бы, Коротаев!
Бочком, бочком Рахмет пробрался к дверям.
— Я очень дорожу этой работой, Никодим Добрынин, уж не гневайтесь… — и пулей выскочил из учительской.
В служебном он работал не на ставке, а сдельно, по часам. Взбреди скорниловским сыскарям в голову сопоставить время налетов и переёмов, проведенных ватагой Соловья за последние пять лет, с расписанием уроков «починки и наладки чужеродных предметов» в сущевском училище, уж они обратили бы внимание, что события эти не совпали ни разу. Но пока не взбрело, слава Мокоше-Милостивице!
Здесь когда-то служил еще отец Рахмета, преподавал начальное числоведение и основы веществознания — большего древляным детям изучать не полагалось. Зато другие три рода совершенствовали кудесные навыки, впитывали силу основ, составляющих мир, — земли, огня и воздуха. В училищах коренных упор делали на растениеводство и недрознатство, у листвяных — на науки о движущих силах и перевоплощении животных, теневые, по слухам, осваивали игры со словами, умовластие, народопользование.
Рахмет запомнил отца веселым и любознательным. Однажды выкопав на грядке какой-то старый горшок, отец попытался разобрать на нем полустертые надписи. Полгода таскался в городскую книжницу, сопоставлял древнюю грамоту с нынешней. Другой раз, как заправский листвяной, взялся рукодельничать, собрал из выпуклых стекляшек настоящий загляд. Ночами они с Рахметом выходили в огород и сквозь дымку, подсвеченную бессчетными уличными светильниками Немеркнущей, изучали щербатый лунный лик.
Отца отчислили из служебного, когда он из лучших своих учеников собрал кружок, чтобы считать звезды в небе. Отчислили жестко, навсегда, с «волчьей выпиской». А кроме учительства отец ничего не умел — и не захотел уметь. В один день жизнь семьи поломалась, пошла под откос.
«__», — твердил отец, подливая себе духовитого «забывая» из мутной бутылки. Больно? Забывай! Обидно? Забывай, забывай, забывай! Отец захирел, зачах и спился за короткие и мучительно долгие два года.
Рахмет тысячу раз воображал, что все пошло иначе. Не случилось бы тогда в его жизни ни Совы, ни беспредельщиков, ни взломов-переемов, ничего злого. Даже сейчас отец еще был бы не совсем старым. И они бы снова расставляли в темноте раскоряку-треногу, по очереди приникали к маленькому глазку загляда, смотрели на перекошенную улыбку блаженной Луны…
Бутырка считалась местом относительно тихим, хотя и не безопасным. Теневые, листвяные и древляные уживались здесь мирно. Доходные дома в четыре-пять поверхов понемногу вытесняли старые избы, некоторые улицы уже мостили брусчаткой, лавки и едальни не закрывались допоздна.
Читать дальше