– Согласен.
– Если вы помните, - продолжал Беннет, - у нас на Западе тогда раздавались голоса, призывавшие к христианскому непротивлению. Это означало, что мы должны были позволить нынешним подопечным, в то время кипевшим яростью и молодой силой, победить нас. Но раковая опухоль не может победить, мистер Фомин! Она может только убить организм, на котором паразитирует, и вместе с ним погибнуть сама. Или вы думаете, что, уничтожив цивилизованный миллиард и размножившись миллиардов до пятнадцати, эти люди благоденствовали бы на завоеванной ими Земле? С их-то средневековым сознанием, порождающим нетерпимость, лишающим их способности к научно-техническому прогрессу?
– Не думаю, чтобы они благоденствовали.
– Они истребили бы сами себя, мистер Фомин! Если бы мы тогда позволили им победить, ни одной из этих мумий, которые вызывают у вас такую жалость, - Беннет кивнул, указывая за стекло машины, - давным-давно не было бы в живых. Они все погибли бы молодыми, и погибли в мучениях - в междоусобных войнах, от болезней, наконец - просто от голода, потому что не смогли бы себя даже прокормить. Подумайте об этом, и вы по-другому посмотрите на комфортабельные лагерные больницы и даже на лагерные кладбища… Да, мистер Фомин, мы действительно исцелились от всепланетного рака гуманнейшим способом. Мы только остановили размножение раковых клеток. И это было наилучшим решением для всех, в том числе и для них самих.
Беннет помолчал, потом спросил:
– Вам известно понятие - конец истории? Наши философы предсказали его добрых сто лет назад, в конце двадцатого века. Они напророчили, что история закончится с повсеместной победой демократии и свободного предпринимательства. Философам следовало добавить сюда еще и бессмертие, уже в то время было ясно, куда идет наука. Они не додумали, жизнь их поправила. И сейчас можно уверенно сказать: через несколько десятков лет, когда умрут последние подопечные, родившиеся перед самой войной, долгожданный конец истории, наконец, настанет. Собственно, он уже наступил для большинства бессмертных обитателей Земли. Как вы считаете, многие из них помнят об этих стариках, доживающих в протекторатах и лагерях?… Вот именно! В лучшем случае наши бессмертные краем уха слышали о том, что существуют спецслужбы ООН, нечто вроде санитаров или ассенизаторов, которые где-то за горизонтом цивилизованного мира все еще копаются в последних людских отбросах минувшего. Вас не шокирует такое сравнение, мистер Фомин?
– Ну, не знаю…
– А я горжусь своей службой, - сказал Беннет. - Кто-то напоследок должен сделать и такую работу. И я не огорчен тем, что какой-нибудь простой обыватель из Нью-Йорка, Токио, Москвы или Сантьяго о нас, бедных ассенизаторах, не думает. А просто живет - без всяких социальных, национальных, религиозных потрясений. Живет на мирной планете, с однородной правовой системой, с условными границами, со свободным перемещением людей, капиталов, потоков информации. Живет, почти не старея, не испытывая страха перед болезнями и смертью. Да, мистер Фомин, это - конец истории!
Встреча с советом старейшин не произвела на меня никакого впечатления. В небольшом зале несколько десятков стариков (кстати, показавшихся мне куда более моложавыми, чем те, что слонялись по лагерным улицам) по очереди что-то говорили Беннету. Разговор шел по-арабски. Беннет слушал автоматический перевод, прижимая к уху "карманник", и через него отвечал старикам. Я тоже мог бы включить свой "карманник", но мне было неинтересно.
Интересное началось после совета старейшин, когда мы вышли оттуда и Беннет внезапно предложил:
– Давайте, отпустим машину и вернемся пешком.
– Пешком, через лагерь?!
Беннет с любопытством, сверху вниз посмотрел на меня:
– Вы, кажется, боитесь, мистер Фомин?
– Не настолько, чтобы забыть о своих обязанностях. Если не ошибаюсь, я должен вас охранять? Где прикажете маршировать, впереди вас или сзади?
– Просто идите рядом. Но не забывайте поглядывать по сторонам.
И мы пошли. Никакого удовольствия от прогулки я, разумеется, не получал. То, что я испытывал, не хочется называть страхом, но мне определенно было не по себе. Одно дело проезжать по лагерным улицам в герметичной машине с непробиваемыми стеклами и совсем иное - шагать ничем не защищенным в потоке здешних обитателей. Мы с Беннетом были слишком заметны. Я физически чувствовал, как волна узнавания катится перед нами, заставляя стариков подопечных (и что они только шляются туда-сюда?), подобно теням, соскальзывать с нашего пути. Расступаясь, они подчеркнуто не смотрели в нашу сторону, и все-таки я кожей ощущал, как они наблюдают за нами. Я ловил их шелестящие, гаснущие с нашим приближением обрывки разговоров. Я вдыхал особенный запах лагеря, в котором тоскливая кислота старческого пота и легкая резь дезинфекции смешивались с ароматами цветочных посадок, пряными испарениями какой-то еды, горячим кофейным духом. Если история действительно кончалась, она кончалась этим странным запахом - обреченной, истекающей жизни.
Читать дальше

![Василий Чичков - Трое спешат на войну [журнальный вариант]](/books/43500/vasilij-chichkov-troe-speshat-na-vojnu-zhurnalnyj-va-thumb.webp)

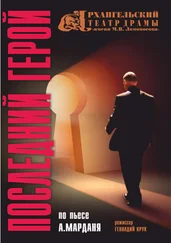


![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)
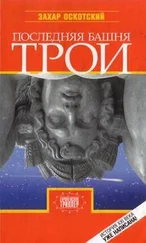
![Валерий Попов - Через Лету обратно (Запоздалый шестидесятник) [журнальный вариант]](/books/414357/valerij-popov-cherez-letu-obratno-zapozdalyj-shesti-thumb.webp)