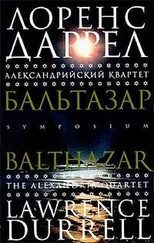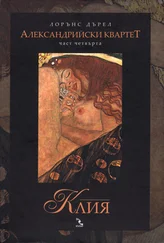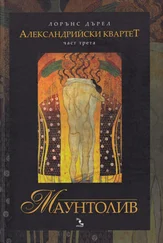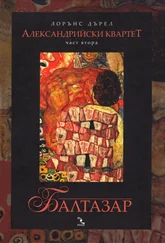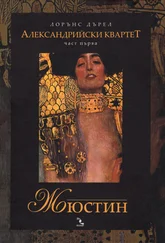"Маунтолив хочет тебя видеть, - сказал наконец Нессим, когда разговор, пройдя круг, снова вернулся к начальной теме. - Когда я могу привезти его? Дипломатическая миссия со дня на день переедет на летние квартиры, так что он все время будет в Александрии".
"Ему придется подождать, я еще не готова, - сказала она, вновь ощутив закипающую внутри злость против самой возможности вторжения в ее мир: любимый и выдуманный. - Столько лет прошло". И спросила с трогательной страстной прямотой: "Он сильно постарел - он седой? С ногой у него все в порядке? Он хорошо ходит? Я о том падении в Австрии, на лыжах..."
Наруз слушал, подняв голову, и на сердце у него было тяжело и неспокойно: он отслеживал вариации чувства в ее голосе, как музыкант читает нотную строку.
"Он моложе, чем был, - сказал Нессим, - и на день не состарился". К его немалому удивлению, она подняла его ладонь, прижала к щеке и произнесла убитым голосом: "Ах, вы невозможны, просто невозможны, вы оба. Уходите. Оставьте меня одну. Мне нужно писать письма".
Зеркала были изгнаны из гарема с тех самых пор, как болезнь лишила ее уверенности в себе, но втайне от всех она сохранила маленькое карманное зеркальце в золотом окладе. Сверяясь с ним, она подкрашивала и подводила глаза - остатки былой роскоши, пробовала на них разные тона, вырабатывая изощренный арсенал взглядов и приноравливая их к разным репликам - в попытке снабдить то, что осталось от ее красоты, словарем, адекватным глубине и живости ее ума. Она была как человек, внезапно пораженный слепотой: он учится читать заново при помощи единственного оставшегося ему органа зрения - рук.
Братья вернулись в дом с его прохладными пыльными комнатами, где на стенах висели старинные ковры и расписные циновки, где громоздились гигантские остовы давным-давно вышедшей из моды мебели - нечто вроде оттоманского "буля"* [Пышный стиль мебели с инкрустацией из бронзы, перламутра и пр.], какой до сих пор еще можно встретить в старых египетских домах. Нессима резануло воспоминание о том, как этот дом уродлив изнутри, о старомодных, времен Второй империи, предметах, о ревниво соблюдаемых ритуалах. Эконом, согласно обычаю, остановил в доме все часы. На языке Наруза сие гласило: "Ты пробудешь с нами столь недолго, пусть же не напоминает о себе череда часов. Бог создал вечность, и пусть не довлеет нам деспотия времени". Древняя эта, передаваемая из поколения в поколение форма вежливости тронула Нессима до глубины души. Даже примитивные "удобства" ванных комнат в доме не было - показались ему вдруг непременным условием здешнего бытия, хоть он и привык к горячей воде и любил ее. Сам Паруз спал зимой и летом нагишом. Мылся он во внутреннем дворике - слуга сливал ему из кувшина. Дома он ходил обычно в старом синем халате и в турецких тапочках и курил наргиле длиною с мушкетный ствол.
Покуда старший брат распаковывал вещи, Наруз сидел на краю кровати и просматривал бумаги из кейса - раздумчиво и сосредоточенно, ведь речь шла о машинах, с помощью которых он намеревался продолжить и даже активизировать боевые действия против мертвых песков. Он уже почти воочию видел: стройные ряды зеленых насаждений, уверенно марширующие в пустоту, - рожковое дерево и олива, виноград и жужуба, фисташка, персик и абрикос, все оттенки зеленого, заливающие бесплодные песчаные пустоши, отравленные йодистой морской солью. Он жадно, едва ли не страстно разглядывал картинки в глянцевых буклетах, привезенных Нессимом, любовно до них дотрагивался, и слух его был полон бульканьем и плеском воды в помпах, воды, что вымывает понемногу ядовитую соль из почвы и пускает жизнь в рост, питая жадные корни растений. Гебель Марьют, Абу-зир - его мысль, подобно ласточке, скользнула поверх барханов в самое сердце Нитрийской пустыни, властная мысль завоевателя.
"Пустыня, - сказал Наруз. - Кстати, съездишь со мной завтра к шатрам Абу Кара? Он обещал мне араба, и я хочу сам его обломать". - "Да, конечно", - ответил Нессим. "Только пораньше, - сказал Наруз, - и еще мы заедем на масличную плантацию, посмотришь, как там идут дела. Ты правда поедешь? Пожалуйста! - Он сжал Нессиму руку. - С тех пор как мы стали сажать тунисские сорта, не стало никаких проблем. Ах, Нессим! Если бы ты с нами остался. Твое место здесь".
Нессим, как обычно, почувствовал сильное искушение согласиться. Ужинали вечером так, как это было когда-то заведено, - ничего похожего на нелепые обычаи александрийских выскочек, - каждый взял со стола салфетку и вышел во двор для кропотливой процедуры омовения рук, с которой в сельском Египте начинается любое застолье. Двое слуг сливали им из кувшинов; они же стояли бок о бок и намыливали ладони желтым мылом, а потом смыли пену розовой водой. И к столу, где единственными инструментами были деревянные ложки, ими ели суп, - с остальными блюдами, мясными, управлялись, ломая на длинные тонкие ломти местные лепешки и обмакивая их в тарелки. Лейла всегда ужинала одна, на женской половине, и ложилась спать рано, так что братья на время трапезы были предоставлены сами себе. Пищу вкушали неторопливо, с долгими паузами между сменами блюд, и Наруз увлеченно играл роль хозяина, подкладывая Нессиму на тарелку лучшие куски, разламывая сильными пальцами индейку и курицу, чтобы гостю удобнее было есть. Под конец, когда подали фрукты, засахаренные и свежие, они еще раз вышли во двор (слуги их ждали) и омыли руки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу