Я изучал юриспруденцию и успевал в этом. Мне повезло - научным руководителем мне назначили Парджеттера из Баллиола*. [Баллиол - название одного из колледжей Оксфорда.] Он преподавал право и пользовался большой известностью - будучи слепым, он тем не менее был знаменитым шахматистом и таким преподавателем, каких я больше не видел. Он был неумолим и требователен, но именно это мне и было нужно, потому что я вознамерился стать первоклассным юристом. Понимаете, когда я сказал отцу, что хочу стать юристом, он тут же решил, что я рассматриваю юриспруденцию как ступеньку к большому бизнесу - именно по такому пути и пошел в свое время он сам. Он не сомневался, что я заменю его в "Альфе". Я и в самом деле не думаю, что он представлял для меня какое-либо иное будущее. Я, вероятно, был с ним не до конца откровенен, потому что не сказал ему сразу же, что у меня другие планы. Мне нужна была юриспруденция, потому что я хотел овладеть чем-то таким, в чем я мог бы быть уверен и где не было бы места для капризов и предрассудков - вольфовских там, нопвудовских... или отцовских. Я хотел быть хозяином своего ремесла, и ремесло мне требовалось самое выдающееся. А еще я хотел как можно больше знать о людях, работать на поприще, которое позволило бы мне разобраться в демоне, овладевшем Биллом Ансуортом.
Желания объявлять крестовый поход у меня не было. Пока болел, пока валялся без сил, я многое обдумал и, в частности, вознамерился поставить жирный крест на том, за что ратовал отец Нопвуд. Ноппи на свой манер хотел манипулировать людьми, он хотел делать их хорошими и был уверен, что знает, что такое хорошо. Для него Бог был здесь, а Христос - сейчас. Он был готов принять сам и навязать другим массу иррациональных представлений, и все это в рамках его особого понимания того, что такое хорошо. Он считал, что Бога невозможно обмануть. А мне казалось, что я каждый день своей жизни вижу, что Бога обманывают и что обманщик получает вознаграждение, добиваясь блестящих успехов.
Я хотел уйти из мира Луиса Вольфа; теперь он казался мне очень расчетливым человеком, который, несмотря на всю свою культуру, ни на йоту не желал поступиться ветхозаветными принципами, во всем подчиняясь им и требуя такого же подчинения от своей семьи.
Я хотел отдалиться от отца и спасти свою душу в той мере, в какой верил в подобные понятия. Наверное, думая о душе, я имел в виду самоуважение и независимость. Я любил отца и побаивался, но нашел крохотные трещинки в его броне. Он тоже манипулировал людьми, а вспоминая его афоризм, я не намеревался становиться человеком, которым можно манипулировать. Я знал, что на мне всегда будет это клеймо - сын Боя Стонтона - и что в некотором роде мне придется нести груз богатства, не заработанного собственными руками, тогда как наше общество рассматривает унаследованное состояние как знак позора. Но по крайней мере в какой-то части этого огромного мира я буду Дэвидом Стонтоном, недостижимым для Нопвуда, или Луиса Вольфа, или отца, потому что я превзошел их.
Идея отказаться от секса никогда не посещала меня. Просто так уж случилось, а я не осознавал, что это стало частью моего образа жизни, пока не утвердилось окончательно. Может быть, в этом есть и доля влияния Парджеттера. Он был холост, а слепота защищала его от большинства женских чар. Он вцепился в меня, как вцеплялся во всех своих студентов, орлиными когтями, но, думаю, к концу моего первого курса он знал: я принадлежу ему как никто другой, сколь бы эти другие ни восторгались им. Если вы рассчитываете овладеть юриспруденцией, говорил он, то вы - глупец, потому что у нее не может быть одного владельца, но если вы хотите овладеть какой-то ее частью, то вам лучше, по крайней мере до тридцати лет, спрятать свои эмоции куда-нибудь в холодок. Я сам принял такое решение и осуществил его, а к тому времени, когда мне исполнилось тридцать, я полюбил холод. С его помощью я заставляю людей бояться меня, и это мне тоже нравится.
Вероятно, я пришелся по душе Парджеттеру, хотя он и был не из тех людей, которые склонны пусть даже к малейшему проявлению чувств. Он учил меня играть в шахматы, и хотя до его уровня я так и не поднялся, но стал неплохим игроком. В его комнате всегда было мало света (зачем ему свет?), и, думаю, на этот счет у него был пунктик - он принуждал зрячих использовать эту их способность в полной мере. Мы часто засиживались у его едва теплящегося камина в полумраке, который мог бы показаться гнетущим, но которому Парджеттер каким-то образом придавал естественность, и играли партию за партией. Он нескладно сидел в своем кресле, я же находился у доски и делал все ходы. Он называл свой ход, я передвигал фигуру, а потом говорил ему, какой ответный ход сделал. После того как я проигрывал, он анализировал игру и указывал мне, где я ошибся. Меня потрясали такая память и такое пространственное мышление у человека, который живет во тьме. Когда я не мог вспомнить, что делал шесть или восемь ходов назад, он окатывал меня ледяным презрением, так что я был просто вынужден придумывать всякие хитрости, чтобы развивать память.
Читать дальше


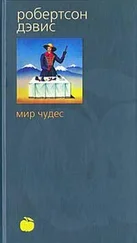






![Робертсон Дэвис - Чародей [litres]](/books/432189/robertson-devis-charodej-litres-thumb.webp)
![Робертсон Дэвис - Убивство и неупокоенные духи [litres]](/books/435538/robertson-devis-ubivstvo-i-neupokoennye-duhi-litr-thumb.webp)