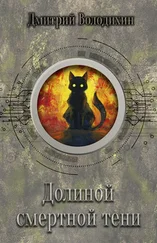Главная идея новой книги И.Я.Кричевского такая: вот, есть социальный нонконформизм, и этот социальный нонконформизм – вечная ценность. Русская интеллигенция родилась с этим знаменем в руке и несла его через года и бедствия. Совесть никогда не позволит соглашаться с сильным, а особенно – на уровне общественного конфликта, а не личного столкновения. Такова, по мнению И.Я.Кричевского, эксплицитная правда. «Надо крепко зажмурить глаза, надо суметь забыть о людях, которые шли на смерть, на каторгу, в ссылку и лишались работы, посмев бросить вызов режиму, отстаивать духовную и политическую свободу… надо искалечить свой слух, зрение и разум, чтобы не видеть величайшей и очевидной правды русской литературы» (С.8). В 60-х годах ее умели отстоять, немало рискуя, Твардовский, Солженицын, Слуцкий, Владимов, Шаламов, Искандер, отчаянные самиздатовцы Вот тогда у нас была великая литература, может быть, не менее великая, чем во времена Толстого и Чехова. Просто большое видится на расстоянии (Глава I – «До городской прозы»). «Слово коммунар тогда сияло в первозданном своем блеске. Оно сивмолизировало некий градус духовной чистоты, смелости и веры в свет – вопреки давящей мгле тоталитарного режима. Оно ни у кого не вызывало смеха. А вот в 70-х – уже почти ни у кого… в 80-х – это слово смешит почти всех, в 90-х, чуть подержавшись за счет баррикад, превратилось в архаику…» (С.68). Иными словами, в 70-х русская литература отправилось в долгий вояж, который впоследствии оказался одной колоссальной чередой ошибок. Глава II в книге И.Я.Кричевского так и называется: «Траектория ошибок». Первой из них были «звездные мальчики»: ранний Аксенов, а особенно его последователи, ослабили градус «накала». Но это еще куда ни шло. «Деревенщики» и, скажем, Веничка Ерофеев – поиск в никуда, уход с «главной дороги». Но и это довольно безобидно – «…если не вспоминать, что именно выросло из „деревенщиков“ к настоящему времени» (С.70). Худшее, по И.Я.Кричевскому, произошло в тот момент, когда «основной поток», (т. е. то, что было в нем неподкупного и подлинно гражданственного) свернув в психологизм, экзистенциализм, постмодернизм и прочие тонкости. В 70-х фактически единственным, кто всерьез «держал позицию», оказался Трифонов (Глава III – «Последний из настоящих»). И.Я.Кричевский восхищается романом «Дом на набережной»: в условиях того времени сказать так много, так честно и так горячо! И, главное, уже вопреки «поворотному стремлению», движению «на кривую». «Какая фундаментальная вещь среди суетных экспериментов!» (С.81). Битов и Маканин были уже не совсем то (Отчасти они размещены в «Траектории ошибок»). А Довлатов, Пелевин, Сорокин, Попов и этот нынешний Слаповский – совсем не то (Глава IV и самая большая в книге – «Падение»). Фактически, «…их творчество знаменовало конец настоящей большой литературы в России. И непродолжительная вспышка Войновича-Рыбакова-Приставкина уже не способна была спасти положение» (С.100).
Итак, И.Я.Кричевский называет Битова и Маканина первыми по-настоящему «знаковыми» фигурами. Да, они по-прежнему пытаются высоко нести идеал интеллигенции. Они пытаются жить и писать, сверяясь с ним. Но «…что-то хаотическое раз за разом прорывается в их текстах, разрушая гражданственный классицизм высоких 60-х» (С.101). Автор назойливо так подчеркивает и давит: вот, процент содержания про глобальный конфликт и про личные беды активно скакнул в сторону последнего. С них по-настоящему началась «городская проза» («если не считать Пьецуха» (С.109)). Битов хотел выпендриться со своими постмодернистскими штучакми, когда писал «Пушкинский дом», и вещь вышла хоть и неплохая, но не стоило накручивать столько лишних сложностей на пустом в общем-то месте. А Маканин «обытовил» прозу. В повести «Где сходилось небо с холмами» – «…виден, конечно, конфликт традиционного сознания с массовой культурой. Но здесь ли проходила генеральная ось нашего противостояния? А в романе „Один и одна“ виден печальный перелом творческого метода: Маканин опускается до весьма глубоких слоев психологического содержания личности, пытается, так сказать, вычерпать все до дна; это, конечно, привлекло в свое время к роману благожелательное внимание многих читателей; но в сущности главная задача интеллигентного человека (именно таких анализирует писатель) перешла на третий план. Таким образом, Маканин утвердил фактическое положение вещей как приемлемое: боль, потери и страдания борьбы с мрачной глыбой советского режима – десяткам, сотням людей, а остальные со спокойной совестью могут пребывать в готовности – пока их не позовут для „настоящего дела“. 70-80-е – это ведь не лермонтовская Россия, а брежневская. Лишний человек в такие времена быстро превращается в дюжинное ничтожество, обывателя. И Маканин ему это разрешил!» (С.111)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

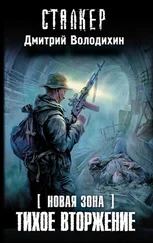

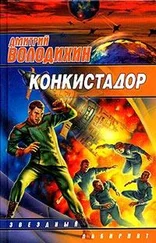
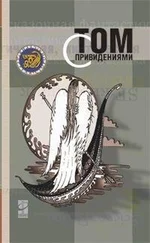
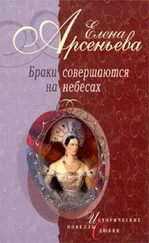
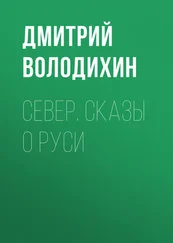
![Дмитрий Володихин - Долиной смертной тени [litres]](/books/400156/dmitrij-volodihin-dolinoj-smertnoj-teni-litres-thumb.webp)