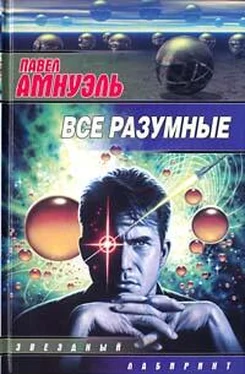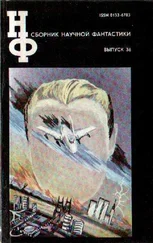— Миша, заткнись! — прикрикнул Эдик. — Все это есть, и ты никуда от этого не денешься. Ты можешь забыть о том, что способен заставить человека поскользнуться на ровном месте? Или о том, что можешь уйти из трехмерия и вернуться? Можешь обладать любой женщи…
— Эдик! — вырвалось у Фила.
— Прости, — пробормотал Эдик. — Никто из нас уже не забудет того, что умеет.
— Но мы в состоянии контролировать себя, — сказал Кронин и, бросив взгляд на Веру, добавил: — Надеюсь, что в состоянии.
— Вот видите! — Миша ударил кулаком по столу. — Мы и за себя не можем поручиться. А если о том, что мы сделали, узнает хоть одна живая душа?
— Боюсь, — сказал Кронин, — что скрывать уже поздно.
— Почему это? — набычился Миша. — Никто, кроме нас…
— И еще Вадима Борисовича…
— Гущина? — удивился Миша. — А он-то здесь при чем? Никаких сведений о настоящих результатах у него нет.
— Есть, — сказал Фил. — Николай Евгеньевич все ему рассказал. Или почти все.
— Вы? — Миша повернулся всем корпусом к Кронину, движение было таким резким, что Николай Евгеньевич инстинктивно откатился на своей коляске к дивану, едва не отдавив Вере ноги. Филу показалось даже, что Миша оттолкнул Кронина взглядом — а ведь это вполне могло быть на самом деле!
— Зачем? — спросил Миша. — Мы же… Как вы могли?!
— Долгая история, — мотнул головой Кронин. — Факт тот, что информация у него есть. К сожалению, не только у него.
— Конечно, — поморщился Миша, — есть еще коллеги в Академии…
— Вы все еще думаете, что Вадим Борисович работает в академическом аппарате? — поинтересовался Кронин.
— Ну… А где же?
— Полагаю, что в более серьезной организации, — сухо сказал Николай Евгеньевич. — Хотя… Это лишь мое предположение. Черт возьми, Михаил Арсеньевич, все, что сделали мы, сделают и другие, вы сомневаетесь?
— Но это… Это… ужасно, — Миша хотел употребить более резкое слово, оно так и висело у него на губах.
— Да, — мрачно согласился Кронин.
— Нет, — сказал Фил. — Пока, во всяком случае, — нет.
— О чем вы, Филипп Викторович?
— Николай Евгеньевич, помните, что сказал Гущин перед уходом?
— Конечно. Об обвинил нас в религиозном обскурантизме и заявил, что мы его разочаровали. Ну и что? Это его личное мнение, оно изменится, когда он глубже разберется в сути проблемы.
— Значит, нужно, чтобы не разобрался, — заявил Фил.
— Но я не понимаю, — продолжал недоумевать Миша, — как вы могли…
— Я не оправдываю себя, — сказал Кронин. — Вопрос в том, можно ли это остановить. Мы… не только мы лично, все люди… еще не доросли до того, чтобы жить в бесконечномерном мире. Чего мы все стоим, если не поняли этого с самого начала? Нам было интересно. Интересно! Кто и когда мог оценить последствия, если на первом месте интерес?.. Неважно, — оборвал он себя. — Что будем делать сейчас?
Кронин потер ладонями виски. Приближался приступ, он это чувствовал, боль уже поднялась от колен к бедрам, сейчас и в руках вспыхнет жестокий огонь, от которого нет спасения — разве только сжаться в комок и повторять «нет, нет, нет»… Тогда боль сворачивается в кольцо и тоже повторяет «нет, нет, нет», и становится не легче, но однообразнее, а однообразие все же лучше, оно не успокаивает, но делает боль подобной смерти, уходу, отсутствию. А потом возвращаешься — когда боль начинает отступать, и это такое блаженство, по сравнению с которым оргазм — ничто, бледное свечение перед солнечным пламенем… Раньше приступы не случались в присутствии посторонних, только ночами, когда он был один. Одному легче. Возможно, он выл и кричал — но он был один, и никто этого не слышал. А сейчас…
Нет, — подумал Кронин, — нет, нет и нет.
Однако это уже пришло, и, теряя сознание, но пытаясь все же удержать себя на поверхности физического смысла, Кронин успел увидеть белое от напряжения лицо Михаила Арсеньевича, и Веру Андреевну, почему-то повисшую на Филиппе Викторовиче всем телом, а Сокольский тоже был бледен, и только Корзун — Кронин различил это боковым зрением — сидел спокойно, сложив на груди руки, и, кажется, не обращал внимания на возникшее в комнате напряжение, и на то, как из середины стола, будто лава из кратера проснувшегося вулкана, течет горячее, светящееся нечто, неопределимое и страшное, как боль, заставившая Кронина закрыть глаза и уйти туда, где нет ни жизни, ни простого человеческого смысла…
Эдик первым обратил внимание на то, как побледнел Кронин и как ладони его, лежавшие на коленях, резко сжались в кулаки, скомкав плед.
Читать дальше