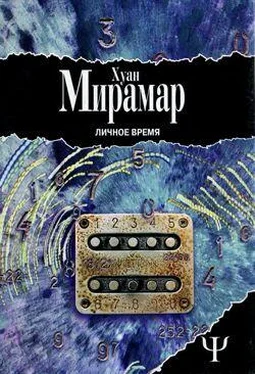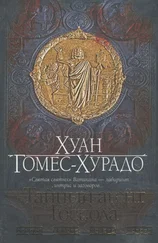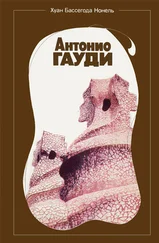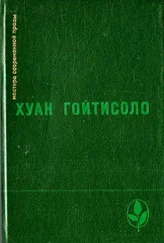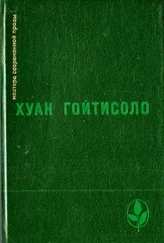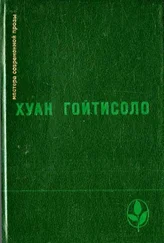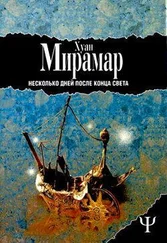Он попытался напрячь память, вспомнить хотя бы что-нибудь из того, что с ним было в Стамбуле, но ничего вспомнить не смог, совершенно ничего; ни как туда летел, ни как обратно, ни в какой гостинице жил – ничего. Зато помнил он отчетливо яркое, несмотря на яркое солнце, оранжевое пламя, рвущееся из-под крыши мечети, помнил, как сначала медленно наклонялся, а потом обрушился с грохотом мозаичный минарет и как слились в едином вопле крики людей, закрывшихся в мечети, слышал «бум-бум» танковых пушек и сухой треск винтовочных выстрелов. Все это были картинки из проникновения – он старался забыть этот ужас, который довелось ему пережить дважды, но забыть никак не мог, а вот поездку в Стамбул не помнил, хоть убей.
Когда Ива куда-то ушла, он позвонил Серикову.
– Ну что, как тебе Стамбул в этот раз? – нарочито бодрым голосом спросил он Серикова, но тот его оптимизма не разделил.
– Хреново, – ответил он, что-то жуя, отчего его голос прозвучал зловеще. – Хреново, – повторил он, – такого тяжелого синхрона я не помню, хотя легких синхронов не бывает, – добавил он свое любимое изречение. – А все потому, что бабу эту твою взяли третьей, а из нее синхронист, как из задницы – те же звуки малоосмысленные, – Сериков в выражениях никогда не стеснялся.
– Вроде ничего она была вначале, – осторожно сказал Рудаки, потому что никакой бабы, тем более им рекомендованной, не помнил.
– Ага, ничего, – хрюкнул в трубку Сериков – это должно было изображать сарказм, – два раза из кабины убегала, наушники бросала. Мы практически вдвоем пахали.
– А как вообще девочка? – не выдержал Рудаки, хотя понимал, что лучше не спрашивать.
– Не помнишь? – ехидно спросил Сериков, прожевав наконец то, что он там жевал. – Или делаешь вид? Вероникой зовут – красивая девочка, между прочим, но это не профессия, во всяком случае, не наша. Теперь могут в Стамбул не пригласить из-за нее.
– Не помню, – в растерянности признался Рудаки, и этого делать не следовало.
– Склероз у тебя, – поставил диагноз Сериков, – или, скорее, придуриваешься, – и повесил трубку.
Рудаки, конечно, помнил, что есть такая Вероника у них на кафедре, действительно, красивая девушка, но что брал он ее с собой на синхрон, не помнил, и казалось ему это маловероятным. Красивая-то, красивая, а для синхронного перевода другие качества требуются.
– Зачем я ее взял? – спросил он себя, но ответа не нашел. «Склероз», – мысленно согласился он с диагнозом Серикова и стал собираться на работу – была у него сегодня третья и четвертая пара, и до лекций много чего сделать надо было, поэтому не мешало поторопиться.
Когда он появился на кафедре, то почти сразу понял: что-то не так.
– Добрый день, – сказал он, входя на кафедру.
На приветствие ответили почти все: и кафедеральные ветераны, проводившие свои «окна» за чтением газет и чаем, и молодежь, уткнувшаяся в учебники, но ответили как-то вяло, пряча глаза.
– Случилось что? – спросил он, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Ничего не случилось, – ответила Павловна – секретарь кафедры с диктаторскими полномочиями. – Вас Алевтина Федоровна спрашивала.
– А… – сказал Рудаки. – А она где сейчас, на паре?
– На паре, – ответила Павловна и сердито зашелестела бумагами.
Он покрутился немного на кафедре и пошел в курилку, которая служила своеобразным кафедеральным клубом. Там он и узнал, в чем дело, от своего старого приятеля китаиста Вонга, с которым давно, еще во времена Империи, работал в Институте информации и теперь вот встретился в Университете.
– Что за остракизм такой мне устроили на кафедре? – спросил он Вонга. – Здороваются сквозь зубы, морды воротят. Алевтина почему-то со мной жаждет встречи.
– А чего же вы ожидали? – ответил Вонг. – Задели вы опять чувствительные места. Из Аппарата Совета Алевтине звонили, – Вонг покачал головой. – За принципиальность платить надо.
Постепенно, задавая осторожные вопросы Вонгу, Рудаки выяснил, что, оказывается, он опять не поставил зачет Устименко, который был не кем-нибудь, а сыном губернатора одной из крупных губерний.
После распада Империи на этой территории образовался Союз независимых губерний и управлял им Совет губернаторов, поэтому губернатор был крупной фигурой и не поставить зачет его отпрыску был риск нешуточный, а Рудаки проделывал это уже второй раз.
Первый раз обошлось, а теперь неприятности могут быть серьезные: выгнать – не выгонят, но все же. Однако не неприятности его сейчас волновали – тревожило его то, что он об этом забыл, не помнил даже, что сдавал курс Устименко зачет по типологии, хотя, посмотрев свои записи, увидел, что зачет такой на его курсе был. Однако не помнил он никаких подробностей, не помнил, и почему он вдруг проявил такую принципиальность. Конечно, Устименко был парнем туповатым и нахальным, но Рудаки прекрасно понимал, что его лекции отнюдь не дают жизненно необходимых профессиональных знаний и интересны и полезны могут быть только тем, кто интересуются лингвистикой и готовы думать над трудными задачками, которые эта наука на каждом шагу подбрасывает. Устименко был явно не из их числа, и станет он, скорее всего, тупым и самодовольным чиновником, как и его батюшка.
Читать дальше