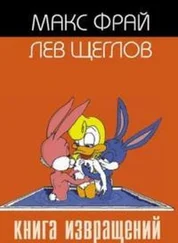Меня снова окатило знакомой волной; сигарета, скуренная наполовину, упала вниз и рассыпалась искрами по асфальту. Я улыбнулся и убрал наваждение. Ко мне с довольным видом обернулся Питер.
— И все крыто-заперто! — объявил он. — Ибо сам Петр Лексеич написал Леблону на чертежах жилых домов: окна да двери делать в два раза уже, понеже у нас не французский климат!
— Я слыхал, он окно в стене вырубил, когда ему душно показалось, — заметил я, глядя на него.
— Ну, мало ли! — насупился Питер. — Это вообще в Голландии было, потом легендами обросло. А скажи-ка лучше, откуда ты взялся. С виду — малец совсем. Из тех краев, что ли? Сателлит при столице?
— Ну, вроде того, — рассмеялся я. — Уж не Рим, во всяком случае!
— Ты на праздник, что ли, прибыл?
— Я просто путешествую. А что за праздник?
Питер приосанился.
— День рождения мой завтра празднуют. Весь город во флагах да штандартах, ночью корабли придут, карнавал будет. Фонтаны пустят, которые еще не пустили.
— Фонтаны! — протянул я почти завистливо. — Здорово как. Я бы посмотрел.
— Так ведь и сейчас многие работают. У Адмиралтейства, да на Невском, да много где. Ты что ж там, не был еще?
Я отрицательно помотал головой. Питер улыбнулся и сделал широкий жест.
— Добро пожаловать, гость заморский. Пойдем, покажу тебе все.
Мы выходим к набережной и идем мимо барж, груженых лесом, мимо большого моста, за которым вдруг возникают фигуры двух сфинксов («Египетские, за великие деньги перекупили у французов!» — поясняет Питер), мимо дворцов и скверов. Питер перечисляет: Академия художеств, Румянцевский сад, дворец Меньшикова, манеж, Университет. Всюду колонны, лепнина, большие окна в частых переплетах. Даже не верится, что я только что вышел из вонючего двора, где всех украшений — мятые водосточные трубы.
— Вот были люди — цари, полководцы, европейские светила! — сетует Питер. — А нынешние что? Измельчали. Не люблю нынешних людей. То есть не то что не люблю, — не понимаю. Ведь живут среди такой роскоши, так хоть ценили бы! Нет, им все мало. И рушат, рушат, старое рушат, а новое строят такое, что уж лучше бы дыра оставалась. Живут у меня, как у Христа за пазухой, а порядку все не знают.
Я вижу, что он просто жалуется, что никакие мои соображения на тему воспитания любых тварей, населяющих тебя, — что двуногих, что в шерсти, что в перьях, — ему совсем не нужны. Я это вижу, но все равно говорю:
— Так избавься от них.
— То есть как это? Они же жители. Граждане. Всякому городу нужны граждане, без граждан никак. Да и жалко их.
— По мне, если своих граждан просто терпишь, так уж лучше без них. Они же чуют, что терпишь. И всегда ими недоволен.
Он хмурится, смотрит исподлобья.
— А ты? У тебя-то что, граждан нет? Или они сплошь ангелы?
— У меня живут только те, кто не может не жить у меня, — отвечаю я, и Питер неодобрительно крутит головой.
— Немного ж у тебя, видать, жителей.
— Немного. Жить у меня непросто.
Питер внезапно останавливается, выпрямляется во весь рост. И тотчас становится похож на шпиль Петропавловской колокольни: светлая игла, вонзенная в небо.
— Я бы хотел, чтобы у меня можно было просто жить. Просто жить и все, — говорит он с неожиданной тоской. — Но, видно, не судьба мне. Слишком близко болота, слишком близко небо. Вот все и прыгают выше своей головы, да скоро выдыхаются, потому как чем выше прыгают, тем глубже вязнут. Ожесточаются, упрямятся. А знаешь ведь, что случается с теми, кто лезет на небо из одного только упрямства?
— Они утрачивают язык и перестают понимать кого-либо, кроме себя, — отвечаю я.
— Именно так, — говорит он.
Небо будто давит ему на плечи, он снова сутулится, смотрит на воду. От воды несет холодом. Мосты тянутся к садам и дворцам, как цветы к теплу, тянутся и не могут дотянуться. Огромный всадник громоздится через реку над набережной, постамент его — кусок гранита, а кажется, что облако. Вот-вот сорвется с него, поскачет по воде, аки посуху, только бабки коню замочит.
— Вот ради этой красоты, — говорит Питер, — полегло здесь столько народу, что до сих пор их кости держат болота. На мощах мучеников стою, как собор какой.
Я смотрю на золотой купол большого храма, на красные клены на площади вокруг всадника, на бело-зеленый органный угол дворца за мостом и думаю, что, по-моему, дело стоило того.
Между тем мой человек сменил сандалии на кроссовки, а футболку — на свитер и джинсовую куртку, и вышел из дома. Я догадался, куда он идет. Куда-нибудь, где продаются карты иноземных городов. Я спросил у Питера, где это может быть, узнал, что примерно в ту сторону мы и идем, и послушно пошел за ним через мост. А он все рассказывал и рассказывал. Про балы до утра, про пожары, про наводнения, про веселое времечко. «Я столицей был, понимаешь ты, столицей, тебе, мальцу, и не понять, что такое быть столицей. Я молодой был, красивый, дворцы, сады, фонтаны, куда ни глянь. И мосты, и набережные». — «А потом?» — спросил я. Питер помрачнел.
Читать дальше
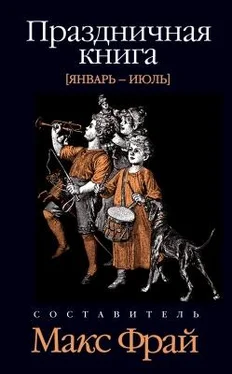

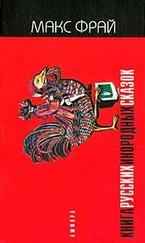

![Макс Фрай - Одна и та же книга [сборник]](/books/25818/maks-fraj-odna-i-ta-zhe-kniga-sbornik-thumb.webp)

![Макс Фрай - Жалобная книга [litres]](/books/72699/maks-fraj-zhalobnaya-kniga-litres-thumb.webp)

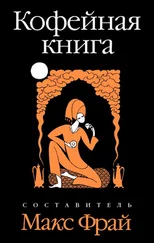
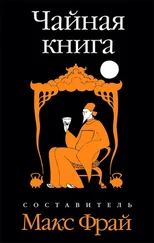

![Макс Фрай - Книга для таких, как я [litres]](/books/414086/maks-fraj-kniga-dlya-takih-kak-ya-litres-thumb.webp)